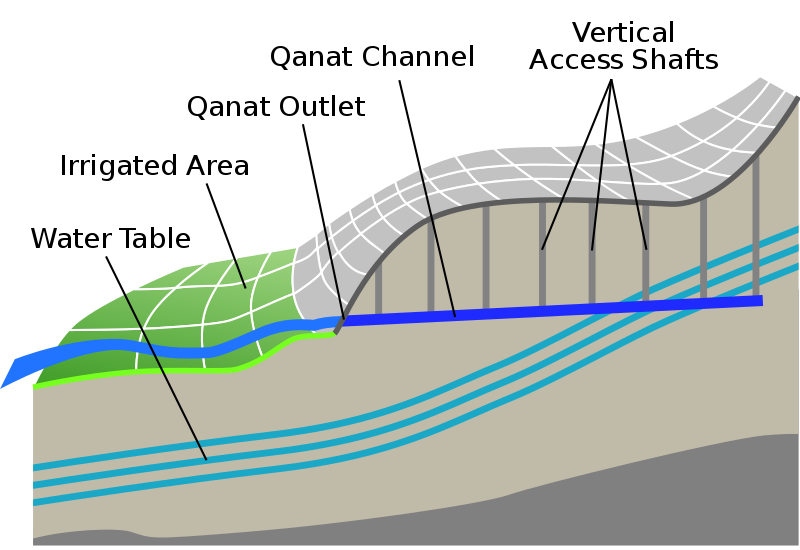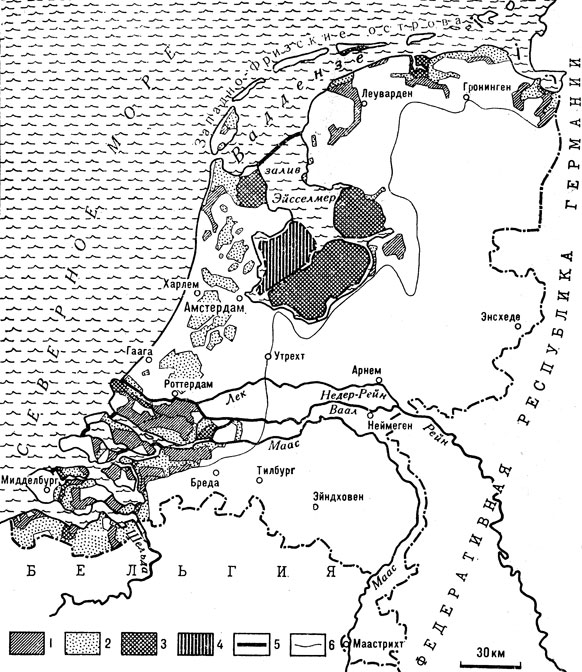Радкау родился в Оберлюббе, теперь Хилле , Ландкрейс Минден . Сын протестантского священника, он изучал историю в Мюнстере , Берлине (Freie Universität) и Гамбурге с 1963 по 1968 год. На него оказал влияние, например, Фриц Фишер . Его докторская степень 1970 года относилась к роли немецких иммигрантов 1933-45 годов по Франклину Д. Рузвельту . С 1971 года он начал преподавать в Билефельдском университете .
Радкау родился в Оберлюббе, теперь Хилле , Ландкрейс Минден . Сын протестантского священника, он изучал историю в Мюнстере , Берлине (Freie Universität) и Гамбурге с 1963 по 1968 год. На него оказал влияние, например, Фриц Фишер . Его докторская степень 1970 года относилась к роли немецких иммигрантов 1933-45 годов по Франклину Д. Рузвельту . С 1971 года он начал преподавать в Билефельдском университете .
С 1972 по 1974 год Радкау вместе с Джорджем В.Ф. Халлгартеном написал краткий обзор немецкой промышленности и политики. Его взгляды на роль Германа Йозефа Абса в переговорах Германии с Израилем привели к судебному иску Deutsche Bank .
Радкау получил венецию легенды с исследованием о взлете и кризисах немецкой атомной промышленности в 1980 году. История технологий и история окружающей среды — любимые темы Радкау. Помимо лесного хозяйства и роли защиты окружающей среды в истории Германии, включая Третий Рейх, Радкау исследовал также связь между Нервоситатом ( Тревога ) и техническим развитием в Германской империи, добавив биографические исследования о Томасе Манне и Максе Вебере
Экологические аспекты гидростроительства и идеи Виттфогеля
выдержка из книги «Природа и власть»
Резюме. В продолжение «Суммы против политаристов» показывается, что базовые для данной теории идеи Виттфогеля о причинно-следственной связи между гидростроительством для нужд орошения, необходимостью участия в этом государства, оказывающегося «благодетельным» и жестким контролем оного над населением опровергаются историей природопользования в древнем мире и в средневековье, описанной в книге Йоахима Радкау «Природа и власть». Нет никакой общей связи между этими тремя параметрами, проявляющимися во всех этих обществах. Будут они связаны между собой или нет, определяется местными условиями, природными и социальными, нет никакой общей зависимости, на инвариантности которой настаивал Виттфогель.
Й.Радкау
1. Гидростроительство, господство и экологическая цепная реакция
- 1 1. Гидростроительство, господство и экологическая цепная реакция
- 2 2. Египет и Месопотамия: архетипический контраст
- 3 3. Орошаемая терраса: культура социально-экологических клеток
- 4 4. Китай как образец для подражания и как пример для устрашения
- 5 5. Культуры на воде в малом пространстве: Венеция и Голландия
- 6 6. Малярия, ирригация, сведение лесов. Эндемия как Немезида природы и хранительница экологических резервов
Для большой части мира вода составляет главную экологическую проблему, причем эта проблема может проявляться диаметрально противоположным образом. Нередко одни и те же регионы страдают то от избытка, то от нехватки воды. Наиболее экстремальны такие колебания в регионах, где нет или мало леса. Амбивалентность воды, ее способность быть и источником жизни, и опасностью для нее пронизывает всю культуру, вплоть до религии и мифологии. С глубочайшей древности Великий потоп, как свидетельствует всемирная мифология, – самая тяжелая травма из всех, что были нанесены человечеству силами природы. Еще и сегодня наводнения составляют примерно 40 % тяжелых природных катастроф (см. примеч. 2). В то же время одним из самых страшных образов медленно подступающей смерти для человечества с давних времен была засуха.
Во многих местах водоснабжение – экологическая проблема, заслоняющая собой все остальные. Вода не менее значима, чем плодородие почв, хотя оно зависит далеко не только от воды и даже может снижаться от избыточного орошения. Тысячи лет человечество накапливало прежде всего один важнейший опыт: доход с земли можно многократно повысить, увеличив подачу воды: для риса – в 10 раз, для сахарного тростника – более, чем в 30. Переход от предупредительных мер против нехватки воды к умножению прибыли за счет усиленного орошения нередко был плавным.
Многие властные режимы со времен шумеров поддавались соблазну укрепить свою легитимность и повысить доходы с помощью ирригационных работ.
«Всякий раз, когда Инка завоевывал новую провинцию, он посылал туда инженеров – специалистов по строительству оросительных каналов, чтобы увеличить площадь пашни»,
– писал Гарсиласо де ла Вега[102] (см. примеч. 3). Искусственное орошение давало такое мощное и быстрое повышение урожая, что с самого начала и по сей день люди не любят думать о том, какими коварными эффектами оно грозит в будущем.
То, что мы сегодня называем «экологическим сознанием», вероятно, раньше всего возникло по отношению к воде; главным его стимулом еще на первых этапах индустриализации была угроза загрязнения воды. Как только люди начали трезво думать о том, как справиться с водной стихией, вместо того чтобы просто впадать в панику перед грядущим наводнением или засухой, они пришли к убеждению, что самое главное – продуманный баланс, для достижения которого необходимо учитывать все стороны проблемы. Уже в Древнем Китае некоторые строители дамб понимали, что строить сооружения, фронтально противостоящие току воды, – неразумно. Вместо этого их нужно мягко и гибко приспосабливать к ее натиску, чтобы они перенаправляли поток, а не оказывались побежденными и разрушенными.
Люди поняли, что для того чтобы избежать более страшных катастроф, нужно уступать дорогу воде (см. примеч. 4). Лучше всего предоставить часть земель в распоряжение половодья: вода принесет на эти земли удобрения, а ее ярость утихнет на широком просторе. Мудрость приспособления к природе в гидростроительстве всегда была совершенно конкретной!
Поливное земледелие меньше зависело от капризов погоды: люди жили с осознанием того, что они и сами могут что-то предпринять. А если нужда все же приходила, то можно было винить и самих себя за небрежение, невнимание к оросительным системам, так что и в этом отношении экологическое сознание уже было вполне современного типа. Однако далеко не все люди могли держать под контролем. Технологии орошения и отвода воды имеют множество подвохов, ответы на которые также разнообразны, и реконструировать их не всегда легко. Среди стандартных бытовых проблем первое место занимает проблема распределения воды. Уже здесь сложностям не было конца, потому что даже если внутри социальной единицы этот процесс и протекал мирно, то шел он за счет людей, живущих ниже по течению, особенно в засушливых регионах, где река не подпитывается притоками и осадками. Текучая природа воды всегда создавала и создает людям тяжелейшие юридические проблемы в регулировании. Первоначальный смысл немецкого слова Rivale(«соперник») – хозяин соседнего участка на ручье.
Согласно дошедшим до нас источникам, уже Будде в 523 году до н. э. пришлось разрешать спор о распределении вод водохранилища, из-за которого два племени в долине Ганга оказались на грани кровавого столкновения. Примечательно, что в мировой истории, по-видимому, почти не случалось крупных войн из-за воды. Очевидно, люди очень рано научились улаживать «водяные» конфликты мирными средствами (см. примеч. 5).
В жарких регионах разветвленные оросительные системы увеличивают объемы испарения до экстремальных величин и часто приводят к засолению почв. Китайцы думают, что именно так «желтый Дракон» пустыни поглотил часть древних культур Шелкового пути. Петер Кристенсен считает, что в жарких семиаридных регионах Ближнего Востока оросительные системы никогда не были в полном смысле устойчивыми, сама их природа делала их недолговечными (см. примеч. 6: «Что ирригационные системы в засушливых регионах вредили землям ниже по течению рек, в принципе, очевидно и было давно известно. Энтони Дженкинсон в 1558 году пишет о Хорезме:
«Воду, которая снабжает всю эту страну, забирают каналами из реки Амударья, приговаривая ее таким образом к серьезному нарушению. Теперь она уже не впадает в Каспийское море, как в прежние времена, и за короткое время вся страна будет испорчена и уничтожена и из-за недостатка воды превратится в бесплодную пустыню, если река Амударья иссякнет»
(см.: Knobloch Е. Turkestan. 4. Aufl. München, 1999. S. 125 fi)»).
Правда, существует давний и довольно простой метод понизить испарение: закрыть оросительные каналы крышами или вовсе убрать их под землю. Он был известен уже в Античности, затем его усовершенствовали арабы. Практиковали его от Валенсии до Китая. Однако сооружение и поддержание в рабочем состоянии таких каналов и труб было делом расточительным, и поэтому годилось скорее для интенсивных культур на небольших площадях, чем для крупных, сильноразветвленных систем.
Широко известны иранские кяризы: подземные водяные штольни, получавшие питание за счет грунтовых вод. Их наличие подтверждено уже для ассирийской эпохи. Прокладывали их с помощью горно-строительных технологий. Работа была мучительной и настолько опасной, что мастера-строители называли свои кяризы «убийцами». Однако подобные сооружения строились и управлялись, как правило, жителями деревень, так что были относительно независимы от перемен и капризов центральной власти (см. примеч. 7:
«благодаря кяризам земледелие на Иранском нагорье было намного более устойчивым к кризисам, чем в Месопотамии, хотя кяризы были тоже чувствительны к помехам и способствовали распространению малярии (см.: Christensen Р. The Decline of Iranshahr: Irrigation and Enviroments in the History of the Middle East 500 В. C. to A. D. 1500. Kopenhagen, 1993. R 122)»).
Удавалось ли людям предвидеть опасность засоления и имелись ли у них средства для его предотвращения, понять трудно. Современные всемирные масштабы засоления подсказывают, что во многих регионах люди так и не научились справляться с этой судьбоносной для всего искусственного орошения проблемой. Правда, удалось найти применение землям, которые из-за соли уже не годились для разведения пшеницы, – на них стали выращивать ячмень (см. примеч. 8).
Типичная ошибка – и раньше, и сейчас – заключается в том, что за орошением, казавшимся самым важным и срочным делом, уходила на задний план необходимость отвода воды, хотя именно эта работа предотвратила бы засоление и заболачивание. Даже страх перед заболачиванием с его страшной спутницей – малярией, не помогал осознать значение дренирования так же ясно, как орошения. Заметные сдвиги стали происходить лишь в Новое время. Еще и сегодня основная беда ирригационных проектов в третьем мире часто состоит в невнимании к дренированию; в исторической перспективе то же можно сказать о Центральной Европе. В 1836 году аграрий-реформатор фон Шверц сетовал на то, что в Падерборне не знают дренажных канав, и что «крестьянская масса» сама по себе, без «решительных мер» сверху, не в состоянии собраться и выполнить подобную общую работу (см. примеч. 9).
Из-за того, что об отводе воды часто думали меньше, чем об ее подведении, орошаемое земледелие и прежде, и сейчас нередко сопровождается угрозой малярии – заразной болезни, исходящей из стоячих вод. Степень этой угрозы зависела от мелких, незаметных различий: совсем ли стоячей была вода или все же чуть-чуть текла, что ограничивало размножение комаров-анофелес, хозяев возбудителя малярии, или содержались ли на залитых водой участках рыбки, поедавшие личинок комаров. При всем страхе перед болотами до XIX века о подобных взаимосвязях люди могли только подозревать. Технология осушения болот принципиально отставала от технологии орошения.
До последнего времени правительства далеко не с таким воодушевлением боролись с засолением, заболачиванием и малярией, с каким они возводили гигантские дамбы, каналы и оросительные системы. Еще великое строительство каналов, предпринятое в конце XIX века колониальным правительством Британской Индии, самым скверным образом воскресило в памяти древние опасности (см. примеч. 10:
«…Эллсворт Хантингтон сообщает, что китайский наместник (Амбан) между 1899 и 1904 годами 3 раза подряд приказывал соорудить в городах бассейна реки Тарим сети орошения. Но каждый раз они за несколько лет приходили в негодность вследствие засоления. Даже страна с такими гидростроительными традициями, как Китай, так мало приспособлена к проблемам засоления в засушливых регионах! Сам Хантингтон настолько зациклен на своей теории изменения климата, что даже здесь ему не приходит в голову, что наблюдаемые им исторические процессы дезертификации могут иметь отчасти антропогенное происхождение. Вместо этого он восторгается идеей провести в пустыни Внутренней Азии оросительные системы! (См.: Huntington Е. Across Central Asia (путевые заметки 1905 года), ND New Delhi, 1996. R 266 ff., 237 f.)»).
Кяризы, они же канаты. Схема и вид изнутри
Кяриз возле Турфана, Синьцзян
Сохранение плодородия полей в значительной мере зависит от комбинации земледелия и животноводства. Оросительные системы (особенно если они составляют частую сеть) нередко затрудняют эту комбинацию, животные могут разрушать дамбы и падать в канавы (см. примеч. 11). Это не означает, что никогда и нигде не было традиций интеграции оросительных сооружений и животноводства. Но для многих регионов типично раздельное, если не враждебное, сосуществование интенсивного поливного хозяйства и кочевого животноводства. Тогда к экологической нестабильности, вызванной нехваткой удобрений, может добавиться и политическая: беспомощность против воинственных и более мобильных кочевников. Не в последнюю очередь отсюда, не обязательно из технологических сложностей орошения, возникает зависимость крестьян от сильной обороноспособной власти.
Суждения о стабильности и лабильности оросительных систем часто подвержены влиянию идеологий и политики. Тот, кто видит спасение в масштабной гидростроительной политике государств, склонен конструировать соответствующие исторические дефициты. Человек, не доверяющий центральной власти и делающий ставку на самоуправление деревень, увидит в великих гидравлических свершениях государственных мужей прошлого пустую декорацию (см. примеч. 12).
Вода как вещество текучее диктует гидросооружениям свои условия – они должны быть как можно более герметичными и как можно дальше следовать за течением воды. При желании нетрудно найти повод для расширения оросительных и водозаградительных систем. Поэтому уже в самых ранних государственных образованиях гидростроительство давало шанс честолюбивым правителям сделать что-то такое, что умножило бы их силу и доходы и вместе с тем продемонстрировало бы подданным их полезность. Первые в истории крупномасштабные технические системы были связаны с водой.
В дискуссии на эту тему уже более полувека главенствуют споры вокруг имени Карла Августа Витфогеля[103] с его теорией о «гидравлическом обществе»[104] или «азиатском способе производства» (в более поздней антикоммунистической версии – «восточный деспотизм»).
[Важней всего эта версия была левым антикоммунистам для атаки на коммунизм настоящий среди тех, кто готов противостоять империализму, их дезориентируя и направляя на ложные цели, к удовольствию спонсоров, а то и кураторов из ЦРУ. В известных событиях 1968-го это, увы, удалось сделать, и левое движение до сих пор не может освободиться от этого морока. «Мы все у тебя списывали», – признался Руди Дучке при личной встрече с Витфогелем в 1979 году». Прим.публикатора.]
В конце 1920 – начале 1930-х годов, когда Витфогель, в то время страстный коммунист, разрабатывал исходный вариант своей теории, им руководило стремление придать всемирный масштаб марксистской картине мира, включив в нее незападные культуры, к которым была не применима концепция феодализма.
Желание истолковать их с точки зрения средств производства вывело его на тему ирригационных систем. Аргументация его состояла в том, что везде, где эти системы приобретали большие размеры, они форсировали развитие мощной централизованной общественной системы, в то время как в Европе с ее неорошаемым земледелием еще преобладали децентрализованные феодальные отношения. Неизбежность появления системы можно было интерпретировать как шанс, а можно было – как угрозу. Позже, перейдя на позиции антикоммунизма, Витфогель усматривал в «гидравлическом обществе» источник тоталитарной деспотии, проклятие всемирной истории. Гидравлическая бюрократия – по Витфогелю – действовала «очевидно, как губка», «впитывая» в себя, помимо «водяных», все новые и новые экономические функции (см. примеч. 13)
В либертарианско-марксистских[105] кругах стало своего рода ритуалом хотя и заимствовать кое-что из Витфогеля, однако его самого предавать либо анафеме, либо забвению. Однако его теория до сих пор жива (см. примеч. 14). Правда, был выдвинут целый ряд весомых возражений: во многих регионах, от Голландии до Шри-Ланка, гидростроительство явно не форсировало деспотизм центра. Там же, где гидростроительство было связано централизованной бюрократией, доказать, что именно оно обусловило ее становление, по большей части невозможно. В доиндустриальных условиях коммуникации деятельность центральных правительств обычно была малоэффективна – слишком далекой была дистанция между ними и людьми на местах. Успех повседневных работ на гидросооружениях могло обеспечить только местное, а не центральное управление: это относилось даже к таким великим государствам, как Индия и Китай.
Впрочем, «ирригационная система» может означать очень разные вещи: от простого регулирования естественного половодья, как в Египте, до сооружения обширных озер-водохранилищ, как в Китае, поддержание которых требовало постоянных работ и больших затрат. Однако в Азии такие водохранилища были скорее исключением, даже по техническим причинам.
Ирригация содержит элемент самоуправления на самом нижнем уровне, когда крестьяне по собственному почину переносят на свои поля принесенный водой плодородный ил, поддерживая этим всю систему. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что в течение тысяч лет гидростроительство и господство были связаны друг с другом, пусть не простой причинно-следственной связью, а через длительную последовательность взаимных влияний. Если даже исходно ирригационная система не нуждалась в централизованной власти, тем не менее правительство могло расширить ее сеть до такой степени, что она, по крайней мере в кризисных ситуациях, уже не могла обходиться без его вмешательства. И если ирригационная система все же функционировала вне централизованной власти, она служила идеальным поводом для налогообложения. Как эвристический импульс, теория Витфогеля по-прежнему сохраняет свою ценность и свой волнующий характер. Она обещает ключ к решению захватывающих загадок истории, может быть, связанных не только с расцветом культур, но и с их упадком. Если свой первый ренессанс интерес к Витфогелю пережил в связи с критикой бюрократической власти, то теперь он продолжается под знаком экологии.
«Создается впечатление, что полностью изгнать призрак Витфогеля так и не удастся»,
– замечает профессор-синолог из Австралийского национального университета Марк Элвин в контексте экологической истории Китая (см. примеч. 15).
[Причины этого, правда, скорей вненаучны; как показывает сам автор на разных примерах далее: в разных обществах неизменно оказывается, что государство и гидростроительство развиваются независимо друг от друга, а их соединение или неустойчиво и опасно, или ведёт к сохранению ресурсов и быстрому развитию, как в Китае — вместо застывшего на века монолита «восточного деспотизма» у г-на Виттфогеля. Прим.публикатора.]
На это есть причина. Не лишено оснований допущение, что самое богатое последствиями воздействие центральной власти на гидростроительство могло бы состоять в том – и этого почти не заметил Витфогель, – что центр доводил оросительные и водоотводные системы до таких масштабов и такой степени сложности, что их уязвимость к кризисам, как политическим, так и экологическим, опасно возрастала. Сети каналов никогда не сохраняют стабильность и не функционируют безупречно. Их строители втянуты «в вечную борьбу против эффектов, возникших вследствие решения предыдущих проблем». Сегодняшние находки в окрестностях руин Ангкора[106], указывающие на заболачивание и иссушение части региона, укрепляют подозрение, что упадок Кхмерской империи шел одновременно с заиливанием ее ирригационной системы. Заметное присутствие нагов, змееподобных водных божеств, в Ангкоре или Бога Дождя в мексиканском Теотихуакане, предположительно самом крупном городе доколумбовой Америки, показывает, как ясно эти высокоразвитые «гидравлические» общества осознавали свою уязвимость перед капризами водной стихии. На знаменитом изображении в Теотихуакане люди, попавшие в рай Бога Дождя, танцуют, плещутся в воде и проливают счастливые слезы (см. примеч. 16).
Карл Шмитт[107] учил, что власть – это принятие решения в исключительных ситуациях. Видимо, в отношениях человека с водой именно кризисы способствовали легитимации централизованной власти. Яо, легендарный император Древнего Китая, спас свой народ от Великого потопа. Марвин Харрис, признающий теорию Витфогеля, считает, что централистские тенденции ирригационных культур обусловлены не обыденными потребностями, а кризисными ситуациями, возникающими при угрозе наводнений или засухи (см. примеч. 17). Правда, методы, к которым прибегали властители-гидростроители, для того чтобы показать себя спасителями нации, вряд ли обеспечивали им долговременный успех. Поэтому история ирригационных систем несет предостережение тем экоактивистам, которые ратуют за глобальную экологическую политику и перенос ее на максимально высокие политические уровни. Самые страшные проблемы могут возникать и тогда, когда люди стремятся к великим решениям.
2. Египет и Месопотамия: архетипический контраст
«Вся Вавилония, как Египет, пронизана каналами»,
– пишет Геродот. Но между ирригационными системами этих стран было и большое различие: в Египте люди лишь пускали на свои поля речную воду, а в Вавилонии – носили ее на пашни собственными руками или качали водокачками. В то же время ученому греку бросилось в глаза, что в Вавилонии, благодаря оросительной системе, превосходившей по плодородию все известные ему земли, не было плодовых деревьев – известных символов долголетия и стабильности. Классический контраст, описанный Геродотом, отчасти прослеживается и в современной литературе. На одном полюсе – Египет, «дар Нила», модель ненасильственного, созвучного природе водного хозяйства, символ вечности, тысячелетней стабильности (вплоть до сооружения уже в наши дни Ассуанской плотины). На противоположном полюсе – Месопотамия, архетип затратного орошения, принуждения и постоянной борьбы с пустыней, повторяющиеся войны, хаос и насилие, наглядно выступающее уже в игре мышц на изображениях ассирийских царей. Нил – символ животворящей реки, приходящей и уходящей как по обещанию, чьи мягкие разливы ежегодно дарили земле тучность и плодородие и на протяжении всего течения реки сопровождались празднествами и культовыми церемониями.
Какой резкий контраст к непредсказуемым Евфрату и Тигру, вечно меняющим свои русла! Для природы Египта характерна уникальная, неповторимая четкость: глубоко врезанная, изумительно плодородная долина Нила, а по обеим его берегам – высоко расположенные пустынные земли, об орошении которых нечего было и думать. В Месопотамии не было ничего определенного, ничего заданного. Орошение открывало путь земледелию, и ничто не тормозило его экспансию. Дорогие и трудоемкие ирригационные системы позволили этой стране, обиженной природой в сравнении с Египтом, намного превзойти своим богатством долину Нила. Но Евфрат и Тигр несли в 5 раз больше твердых осадков и в нижних своих течениях имели меньший перепад высот, чем Нил, так что постоянно заносили илом гавани и заболачивали поля.
Вместо теснившихся в долине деревень, как на берегах Нила, здесь были города, которые стремились – тщетно, как оказалось впоследствии, – обрести власть над землей и спорили между собой за воду. Месопотамия с самого начала расплачивалась за искусственное орошение медленным и неуклонным засолением почвы. В Египте вода уходила сама, естественным путем, и уносила с собой лишнюю соль. В Месопотамии с ее болотами свирепствовала малярия, самой знаменитой жертвой которой стал Александр Великий. Египет вплоть до XIX века считался здоровой страной. Правда, пристальный взгляд разглядит признаки засоления и в Египте, около 1800 года основной зерновой культурой здесь стал толерантный к соли ячмень (см. примеч. 18).
Карл В. Бутцер, посвятивший десятки лет установлению связей между египтологией и экологией, теорию Витфогеля отвергает: предположение о том, что возникновение централизованной власти на Ниле – это неизбежное последствие ирригации, он считает принципиально неверным. Он не доверяет тем сведениям, которые слышал Геродот – что первые фараоны обнаружили на Ниле болотистую дикую местность, которую им только предстояло освоить и обустроить при помощи разветвленной сети каналов. По мнению Бутцера, все было иначе. Крестьяне населяли долину Нила задолго до эпохи Царств, сама река без особых технических усилий делала эти земли плодородными. Хотя искусственное орошение действительно началось с эпохи Царств, но управление оросительными сооружениями и во времена фараонов осуществлялось на местном уровне, не централизованно. Хотя есть сведения, что Мина, первый фараон (по Геродоту), построил большую плотину для защиты столицы от наводнений, но уже во время строительства она была разрушена сильной приливной волной. Немецкий ученый Гюнтер Гарбрехт считает, что после этого египетские инженеры тысячи лет не отваживались на подобные стройки. До 1843 года в долине Нила не существовало систем из запруд и каналов (см. примеч. 19).
Карл В. Бутцер. Ранняя «гидравлическая цивилизация» в Египте
Но и это еще не вся история. Полностью полагаться на природу Нила было нельзя. Уже Геродот знал, что Нил со временем меняется: он глубже врезается в свое ложе, а вода его выходит из берегов только в том случае, если ее уровень достигает определенной высоты. Такое случалось не каждый раз, бывали и годы засухи, как донесла до нас библейская история о Иосифе. И даже в тучные годы приливная волна без помощи искусственного орошения доходила не до всех частей долины (см. примеч. 20: «В эпоху колониального планирования каналов и водохранилищ опыт Древнего Египта был интерпретирован заново: не Нил как таковой, а «водохранилища и каналы» породили богатство Египта!»). В конце Древнего царства Египет поразили тяжелейшие засухи, совпавшие с периодом, известным в политической истории как «темные века».
После 2000 года до н. э., в эпоху Среднего царства, на историческую сцену выходят фараоны, которым подходила модель Витфогеля. Проводимые ими ирригационные работы были столь масштабны, что некоторые египтологи говорят о «ирригационной революции», а сами фараоны остались в памяти как спасители. Геродот пишет, что со времен фараона Сесостриса (Сесострис III, примерно 1850 год до н. э.) долину Нила из-за большого количества искусственных каналов уже нельзя было перейти посуху. О его преемнике Аменемхете III в народе складывали песни:
«Он сделал Египет более зеленым, чем сам Великий Нил».
Понятно, что это сильное преувеличение – все оросительные системы фараонов могли лишь отчасти подправить капризы Нила. Видимо, только в эпоху Нового царства, во второй половине второго тысячелетия до н. э., на берегах Нила появляется шадуф – водоподъемное сооружение, сделавшее возможным орошение полей при низком уровне воды в Ниле (см. примеч. 21). Но его простой рычаговый механизм не мог сделать орошение больших площадей независимым от разливов Нила. Именно простота этого механизма и объясняет, почему засоление почв в Египте в течение тысяч лет оставалось ничтожно низким.
Сдержанность Древнего Египта по отношению к гигантским гидравлическим проектам была нарушена лишь один раз. Этим исключением стало завершенное в эпоху Аменемхета III (ок. 1853–1806 годов до н. э.) освоение Файюмской низины, в том числе сооружение водохранилища, которое еще Геродот считал одним из чудес света. Один из старых боковых рукавов Нила соединял его с долиной Великой Реки. При высоком уровне воды оно заполнялось, в сухое лето – отдавало воду. Это позволяло получать несколько урожаев, но повышало опасность засоления. Впоследствии Птолемей II (285–246 годы до н. э.) осушил водохранилище, чтобы на полученных землях расселить греков (см. примеч. 22). Сегодня его местоположение никто точно не знает, и даже само существование водохранилища у некоторых специалистов вызывает сомнения. В истории Египта попытки круглогодичного орошения так и остались локальным эпизодом.
В отличие от Древнего Египта, претендующего войти в учебные планы по экологической истории в качестве идеальной модели, Месопотамия, напротив, могла бы служить примером предостережения. Начинается это уже с древнейшей высокой культуры – шумерской: в популярных версиях истории окружающей среды шумеры нередко выступают в роли первых экологических самоубийц и служат подходящим вступлением к пессимистической версии экологической истории как разрушения природы человеком. Затерянные в пустыне величественные руины Ура и Урука с момента их открытия наводили на мысль, что здесь погибла не только культура, но и окружавшая ее среда. Вопрос только в том, вызван ли упадок природы упадком культуры или же сама культура погубила окружающий ее мир. До XX века казалось ясным, что к наступлению пустыни привел упадок оросительных систем, и что новые ирригационные программы вновь превратят Междуречье в Эдемский сад.
Лишь после того как иракское государство проверило эту версию на деле, стали понятны истинные масштабы засоления (см. примеч. 23). Тогда усилилось подозрение, что именно тысячелетнее орошение могло послужить причиной превращения этой земли в пустыню, точнее – длительное орошение без пара и залежи, без необходимого дренирования и в сочетании с вырубкой лесов.
Действительно, признаки засоления почв известны уже с шумерских времен. Оно было тем более необратимым, что усиливало естественный процесс, шедший и без участия людей. Полностью беззащитными перед ним шумеры не были – они расширяли посадки ячменя. Многочисленные свидетельства позднешумерской эпохи, так называемой III Династии Ура (ок. 2000 лет до н. э.) дают наглядную картину управления системой каналов и ликвидации ущерба от эрозии. Свод законов Хаммурапи (ок. 1800 лет до н. э.) содержит строгие правила в отношении ирригации, однако предполагает индивидуальную ответственность:
«Если человек не уберег свою дамбу от разрушения, не усилил ее в случае необходимости, так что дамбу прорвало, и вода залила поля, то человеку, чью дамбу прорвало, надлежит возместить уничтоженное зерно» (см. примеч. 24).
Археологические раскопки обширных ирригационных систем древности требуют очень больших сил и средств, находки трудно поддаются датировке, к тому же, как правило, значительные части каналов в более поздние времена были вновь засыпаны. Поэтому говорить о ранней истории оросительных систем можно лишь с большой осторожностью. Роберт Мак Адамс, изучавший основные центры Месопотамии, как и Бутцер, приходит к заключению (впрочем, далеко не бесспорному), что и там крупные оросительные сооружения были в древности исключением. Так же как в долине Нила, земледельцы обходились без обширных сетей орошения, управляемых из центра; появление централизованной власти нельзя объяснить экономико-экологическим императивом, даже если письменные документы, прославляющие деяния правителей, оставляют другое впечатление. Крупные каналы хотя и строились, но функционировали недолго (см. примеч. 25). Контраст между ирригационными культурами Египта и Месопотамии первые тысячелетия не был столь экстремален, как часто думают. Даже эллинистическо-римская эпоха не могла усилить пагубные тенденции, иначе как можно объяснить, что 1000 лет спустя поблизости от двойной метрополии Селевкия-Ктесифон расцвел Багдад.
За пределы своих экологических возможностей Месопотамия, видимо, начала выходить на удивление поздно, только в позднеантичное время, в эпоху Сасанидов, а кульминация бедствий относится к раннеисламскому времени, эпохе Аббасидов. Вавилонский учебник по земледелию, относящийся предположительно к эпохе Сасанидов, еще отмечен духом агрикультурного завоевания, стремления к освоению земли и борьбы с пустыней, но вместе с тем и осознанием климатической угрозы (см. примеч. 26). Видимо, в это время и в последующую исламскую эпоху вошли в активное употребление нории – водоподъемные механизмы с водяными колесами. Они позволили орошать такие участки, до которых вода сама по себе не доходила, и перейти к круглогодичному орошению с получением нескольких урожаев в год. Это означало ликвидацию пара и залежи, снижавших засоление почв. Вероятно, что в долгосрочной перспективе это привело к сильному обострению проблемы засоления. Кроме того, чем крупнее и комплекснее была ирригационная система, тем больше ее функционирование зависело от административного принуждения. Как только оно ослабевало, части оросительной системы давали сбой. Вызванные им периоды голода усиливали дестабилизацию системы, и таким образом запускался политико-экологический circulus vitiosus[108].
Возникает впечатление, что это произошло именно в эпоху Аббасидов (см. примеч. 27). Чем больше Месопотамия приближалась к модели Витфогеля, тем критичнее становилась ситуация. Высокоразвитая «гидравлическая» деспотия была особенно уязвима с точки зрения экологического баланса [однако арабский мир именно в эту эпоху был максимально далёк от этой идеализации: рынок, частная жизнь, частный бизнес всецело доминировали в обществе, власть была где-то там далеко и сверху, почти незаметной для этих людей, ментальность которых довольно точно соответствует веберовской «протестантской этике» — хотя вела к совершенно иным результатам. Прим.публикатора].
В завершение несколько слов о Греции и Риме. Бросается в глаза то, что незаметно классическому филологу, – как мало, в сравнении с большинством высоких культур древности, здесь говорится об орошаемом земледелии, хотя в Средиземноморье в теплые сезоны года, когда лучше всего могли бы расти хлеб и овощи, дождей не хватает. Нельзя сказать, что оросительных каналов там вовсе не знали: уже Гомер пишет о «водоводе», который
«…в сад, на кусты и растения, ров водотечный проводит…»[109].
Однако эта фигура не была архетипична для греческой культуры. Современная демифологизирующая эллинистика представляет дефицит ирригационных систем как крупный исторический и современный недостаток страны. Но если следовать теории Витфогеля, то оказывается, что интуиция совершенно верно подсказывала свободолюбивым грекам не подражать халдеям и не строить каналов, тем более что они с грехом пополам, но обходились той водой, которую давала им природа. В Греции не так сухо, как кажется туристам, приезжающим только в те месяцы, когда осадков мало. На основе детальных исследований английский ботаник и специалист по истории сельского хозяйства Оливер Рекхем приходит к выводу, что симбиоз между человеком и природой на Крите продержался тысячи лет и без крупных оросительных сооружений и был нарушен не так давно, после расширения оросительных систем (см. примеч. 28).
Еще заметнее отсутствие крупномасштабной ирригации у римлян, которые, как можно видеть по величественным руинам терм и акведуков, сделали гидростроительство важнейшей частью репрезентативной архитектуры. Но обслуживало оно городских потребителей, а не сельских производителей. По нему видно, как высоко горожане ценили чистую воду из далеких горных источников. Однако гидростроительная деятельность римлян была ограниченной. Тацит в «Анналах» сообщает, как в 15-м году н. э. в сенате из-за целого ряда практических и религиозно-философских возражений провалился проект по регуляции русла Тибра. Говорили, что запланированные меры только сместили бы наводнения на притоки Тибра, да и вообще, известно, что все в природе, включая речные русла, уже приспособлено для человека наилучшим образом, и поэтому на реках не следует ничего менять. Государственная служба по вопросам воды имела наибольшее число чиновников из всех административных служб Римской империи. Несмотря на это и на представительность зданий, в гидростроительстве Римской империи преобладала частная инициатива. Динамика римского господства имела, очевидно, не гидравлическую природу, правда, в Северной Африке падение Империи сопровождалось упадком орошаемого земледелия (см. примеч. 29).
3. Орошаемая терраса: культура социально-экологических клеток
«Мы, ученые и художники, проходили через террасные ландшафты, не видя их».
Таким признанием начинает свою книгу о террасах Прованса современный автор. Европейские историки сельского хозяйства не замечали террас, потому что очень долгое время о них практически никто ничего не писал. А это, в свою очередь, объясняется тем, что террасы, по крайней мере в Европе, редко вызывали потребность в организованном управлении – каждый крестьянин сам по собственной воле поддерживал в порядке свои террасированные поля и их стенки. Только орошение требовало инстанцию выше крестьянского двора. В Южной Франции, как и в других регионах, террасы были миром мелких крестьян, а не крупных землевладельцев. Это был мир огорода и огородных орудий, оградивший себя от сельскохозяйственного прогресса, тесно связанного с тяжелым плугом и тягловыми волами. Отсюда и молчание ученых-аграриев, обычно столь словоохотливых.
Из-за немногословности мелкоземельных крестьян происхождение террас вызывает бесконечные споры, тем более что их археологическая датировка редко бывает возможна. Сегодня террасы являются характерным элементом средиземноморского ландшафта. Так ли это было в Античности? Авторы греческих и римских трудов по сельскому хозяйству о них не пишут. В классических языках не было даже такого понятия – признак того, что если террасы как таковые и были, то высокоразвитой культуры террас не было. В общем, считается, что сооружение и поддержание террас – труд столь тягостный, что принудить к нему людей мог лишь рост плотности населения и необходимость продвинуть интенсивное землепользование даже на склоны гор. Тем не менее в Средиземноморье уже в Античности сооружали простые террасы для разведения масличных деревьев. Правда, еще недавно в некоторых частях Тосканы поля разбивали без террасирования, проводя борозды сверху вниз, что давало полный простор эрозии почвы (см. примеч. 30).
В общем и целом картина Средиземноморья выглядит противоречиво.
«Появление террас, – пишут Оливер Рекхем и Дженнифер Муди, – это ключ к пониманию греческого ландшафта, но, к сожалению, мы не владеем этим ключом».
Подтвердить существование террас можно обычно только для последних столетий, однако отдельные находки датируются более ранним временем, вплоть до бронзового века. От примитивной сухой кладки до «величественных террас» инков и доведенных до совершенства рисовых террас юго-восточной Азии – долгий путь; понятие «терраса» может означать очень разные экологические и социальные системы. Высокоразвитые, искусно орошаемые террасные системы распространились в Средиземноморье, видимо, много позже, часто только в Новое время (см. примеч. 31). В Античности импульс к их сооружению отсутствовал. В Северной Африке наиболее многочисленные и наиболее совершенные террасы обнаруживаются на юго-западе Марокко, то есть в самой удаленной от римского влияния области: это никак не указывает на то, что римляне были мэтрами в террасных делах.
В Лангедоке террасирование, видимо, впервые продвинулось высоко в горы в XVI веке, с ростом плотности населения, техника орошения при этом еще несколько столетий сильно отставала. Возраст живописных «левад» Мадейры, в последнее время ставших популярным объектом экологического туризма, насчитывает в большинстве своем не более нескольких столетий. Почву на крутые склоны здешних гор порой приходилось доставлять в корзинах. Строительство оросительных каналов в горах тоже было крайне трудным делом и заметно продвинулось не ранее XIX века. Тысячелетнюю традицию имеют прежде всего орошаемые террасы в древних рисоводческих районах Южного Китая и Юго-Восточной Азии. Но и в Южном Китае заливное рисоводство заметно усилилось в Новое время, а на Яве площадь рисоводческих террас выросла более чем втрое с начала XIX века (см. примеч. 32).
Рисовые террасы в Юннани…
Клиффорд Гирц описывает субак – рисоводческие террасы на Бали. По его мнению, субак – это не только физическая, технологическая, но и социальная и даже религиозная единица. Благодаря оросительным системам возникают и более крупные системы, но в типичном виде террасы представляют собой агломерацию мелких крестьянских ячеек, члены которой интенсивно обрабатывают свои земли. Этажи поднимающихся высоко в горы террас издали кажутся единой гигантской пирамидой, или, если смотреть на круглую долину, одним большим амфитеатром. Но если сойти с тропы, неожиданно оказываешься в лабиринте, выбраться из которого очень нелегко. Подобные лабиринты должны были служить очень неплохой защитой от вторжения врагов с равнин. Мелкоячеистые крестьянские культуры могли сохраняться и в тяжелые времена. Поскольку устройство и поддержание террас в горах очень трудоемко, подобная ландшафтная архитектура крепко привязывала людей к земле и заставляла с высочайшим вниманием относиться к каждому ее клочку (см. примеч. 33).
Террасы с их многочисленными, мелкими, четко отграниченными друг от друга полями-клетками позволяют «довести до высшей точки логику поликультуры», а сплошной, совершенной сетью, то есть единой системой, их делает заливное рисоводство с его обильным, но точно регулируемым орошением. Хотя к романтическим пейзажам Средиземноморья принадлежат прежде всего сухие террасы с виноградниками, оливковыми деревьями и дикорастущими цветами, оплетающими каменные кладки, но в мировом масштабе определяющий элемент террас, будь то в Восточной Азии, Северной Африке или Латинской Америке, – оросительные системы. Они требуют создания водонепроницаемого слоя почвы, и уже это обусловливает более долговременное вмешательство в ландшафт, чем в случае сухих террас. Ступенчатое устройство террас, столь тяжелое в других отношениях, при орошении создает преимущество, ведь и полив, и отвод воды тут можно регулировать точно и с относительно малыми трудозатратами, без водокачек и дренажных рвов.
…и в Индонезии (субак)
Дренаж особенно важен на рисовых террасах, ведь рис очень чувствителен к засолению. Однако потребность в регулировании подвода и отвода воды вовсе не автоматически ведет к становлению коллективного хозяйства. Даже на балийских «субаках» с их исключительно комплексной организацией орошения крестьянин оставался сам себе хозяином. А вот маоистские народные коммуны превращали работы по террасированию лессовых склонов в образцовые проекты, демонстрирующие мощь коллектива (см. примеч. 34).
В истории окружающей среды террасы выглядят как двуликий Янус. Они наглядно, как никакая другая форма хозяйства, показывают глубокую амбивалентность отношений между человеком и природой:
самая радикальная перестройка ландшафта, превращающая целые горные склоны в гигантские ступени, сочетается здесь с высочайшей заботой о почвах. Но именно это земледелие, основанное на сильнейшем экологическом сознании, мгновенно оборачивается разрушением почвы, как только людей начинает не хватать, и их заботы ослабевают.
Гирц видит «самый впечатляющий признак террасы как экосистемы… в… исключительной стабильности». Так кажется при взгляде на тысячелетние рисовые террасы Юго-Восточной Азии. Или они выглядят стабильными только на моментальном снимке и только в сухое время года? После шквальных тропических дождей и наводнений их нужно устраивать заново. Карл Бутцер считает, что сегодняшний «мертвый вид левантийских окраин и высокогорий», когда-то бывших центром истории, легко объясняется «быстрым смывом почвы» после разрушения террасных каменных кладок. Роберт Мак Неттинг во внутренней Африке наблюдал, как опасно для экологии террас падение плотности населения: там, где некому подновлять террасы, эрозия разрушает их в течение одного-двух десятилетий. На Майорке оползни и сели каждую весну разрушают часть террас. В то же время если на равнине эрозия часто развивается незаметно, то на террасах малейшая потеря почвы сразу бросается в глаза и компенсируется пока жива крестьянская культура.
Около 1780 года на склонах Севенн в любой сезон года можно было видеть фигурки местных жителей обоих полов с корзинками земли на спинах, карабкающихся вверх по склонам, порой даже на четвереньках. В XIX веке в некоторых местах почва становилась такой ценностью, что ее даже покупали! Конечно, в таких условиях за сохранностью почвы следили очень усердно. Вместе с тем люди здесь более, чем где бы то ни было, были заинтересованы в самом интенсивном пользовании с самым кратким паром. В Китае и в XX веке можно было наблюдать, как крестьяне в корзинах поднимали наверх смытую со склонов почву, которая, в свою очередь, недолго удерживалась на месте: им «приходилось мириться с перманентной эрозией почвы и медленным, незаметным изменением их земли» (см. примеч. 35).
Даже искусно сделанным и хорошо ухоженным террасам были органически присущи определенные недостатки: в насыпанной на обрывистые склоны позади каменных кладок почве легко возникали провалы, и свежепринесенная почва засыпала верхний слой грунта. Однако во многих регионах технология сухой кладки доходила до такого совершенства, что потоки дождевой воды как бы фильтровались через стену, не слишком размывая почву. Наиболее стабильной, способной выдержать несколько веков, а то и тысячелетий, кажется орошаемая рисовая терраса, требовавшая сооружения водоупорной насыпи. Ее долговечность объясняется прежде всего тем, что она требовала минимального количества удобрений извне и сама в значительной степени восстанавливала нужные ей питательные вещества. Если экологическая стабильность подсечно-огневого земледелия страдала от усиления демографического давления, то состояние рисовых террас, требующих интенсивной работы, прирост населения, наоборот, стабилизировал.
На территории современного штата Нью-Мексико в доколониальное время террасное земледелие, напротив, обедняло почвы, видимо, в основном из-за того, что кукуруза гораздо требовательнее и больше берет из почвы, чем рис. В отличие от этого, безупречные, хорошо удобряемые террасы империи инков кажутся стабильной экосистемой, тем более что они были снабжены искусными дренажными системами. Гарсилаго де ла Вега описывает, с каким тщанием жители империи инков собирали человеческие экскременты, а также птичье гуано. За убийство птицы человеку грозила смертная казнь, строгое наказание грозило и за пустое растранжиривание удобрений (см. примеч. 36).
В одной местности на севере Эфиопии, где ступенчатые террасы впервые начали закладывать только после 1950 года, в народе живет предание, что террасное земледелие (пусть оно и привело в итоге к замечательному успеху) придумал сумасшедший (см. примеч. 37), – настолько идиотской казалась эта работа местным жителям, прежде знавшим только полукочевое земледелие, перенос полей и бродячий образ жизни. И в Центральной Америке, и в Восточной Африке специалисты по оказанию помощи развивающимся странам постоянно убеждаются в том, что террасное земледелие не приживается без соответствующего менталитета и культуры труда местных жителей: люди пассивно наблюдают, как скот топчет террасы, а земледелие на плохо ухоженных террасах лишь ускоряет эрозию. Если не управлять распределением воды, если вовремя не чистить каналы, то самые нижние поля не получат своей доли воды.
Орошаемые террасы требуют жесткого расписания, временной дисциплины. На Мадейре расписание полива определяло правила жизни, для этого во многих местах острова были поставлены башни с часами. На рисовых террасах Южного Китая жизнь перестает быть «танцем с многочисленными импровизациями», а уподобляется «дворцовому этикету» с его четким расписанием, замечает этнолог, изучающий рисовые культуры Юго-Восточной Азии. Переход от бродячего земледелия к культуре рисовой террасы вряд ли сулит много радости: горизонт сужается, меню беднеет. Даже одежда темнеет – на смену ярким, замысловатым нарядам приходят строгие черные робы. Грегори Бейтсон[110] считает, что жители Бали глубоко подавлены своими многочисленными ритуалами. Он пишет, что балиец живет в постоянном страхе сделать что-нибудь не так. Когда Эстер Бозеруп подчеркивает преимущества мелких интенсивных культур, способных выдержать некоторый рост демографического давления, она, как и многие ученые, видит тему прогресса, но не видит тему счастья. Может быть, именно менталитет, в котором принято каждую секунду жизни быть счастливым, объясняет, почему в Черной Африке устройство террас так часто не удавалось? В этих местах рост численности населения регулярно приводит к ускорению почвенной эрозии (см. примеч. 38).
Рис, урожаи которого можно многократно повысить усиленным поливом, заставил довести технику террасирования до высочайшего совершенства. Каменные стенки стали здесь небольшими дамбами, позволявшими точно регулировать не только подвод, но и отвод воды в соответствии с потребностями растений. Действительно ли эти террасы и есть верх совершенства, или и они – явление двойственное?
Гирц описывает орошаемые террасы на Бали и в Марокко как яркий контраст:
«Ирригация на Бали представляет собой мощную, однородную, тончайшим образом выверенную, многоступенчатую, изумительно эффективную систему. Марокканская ирригация… это мелкая, совершенно разнородная, выверенная в лучшем случае на глазок, одноступенчатая, не более чем умеренно эффективная система».
Яванские рисовые террасы «савах» показались Гирцу близкими к совершенству – действительно ли они таковы? На «субаках» Бали вся хитроумная система распределения воды сбивается, если сезон дождей приходит с запозданием (см. примеч. 39). Но, может быть, это лишь своего рода «стабилизирующий кризис», не позволяющий людям пренебрегать своими ежедневными обязанностями? Частью экосистемы рисовых террас, как в долине реки По, так и в Восточной Азии, часто является рыба, которая держится там в период высокого уровня воды.
Рыба поедает вредителей, перерабатывая их и превращая в частицы, служащие удобрением. В долине реки По рыба после ухода воды также совершает переход – в тарелки с ризотто. Экосистемы, состоящие из шелковичных деревьев, шелковичных червей, дамб, риса и рыбных прудов, вызывают симпатию у тех исследователей, которые любят открывать для себя экологическую логику традиционных форм хозяйства. Все их многочисленные элементы кажутся частями одного большого круга, в котором каждое звено цепи питает последующее – в той мере, насколько реален такой идеальный тип и не возникает иных проблем (см. примеч. 40).
Можно предполагать, что экологическая стабильность рисовых чеков является природным базисом тысячелетней преемственности китайской культуры. Стала ли последующая экспансия рисоводства и многократное повышение урожая элементом дестабилизации? Можно ли считать, что терраса сыграла двойственную роль не только в истории Китая, но и в масштабах всемирной истории? Попытки ответа на этот вопрос дают нам две противоположные интерпретации истории Китая.
4. Китай как образец для подражания и как пример для устрашения
Для западных представлений о Китае с XVIII века и по сегодняшний день, от первых императоров династии Цин до эпохи Мао характерна резкая контрастность. С одной стороны, наводящая ужас картина азиатской деспотии, не знакомой с понятиями демократии и прав человека, с другой – образец мудро устроенного государства во главе с философами-мандаринами. В черно-белой гамме выдерживались долгое время и представления о том, как китайцы обращались с окружающей средой[111]. Напрашивается подозрение, что все эти картины не более чем проекции западного восприятия. Однако во многих отношениях они вполне коррелируют с тем, как видят свою страну современные китайцы [находящиеся под мощным западным влиянием с начала рыночных реформ в 1978 г., и ставшие органичной, потом и одной из главных частей мирового капитализма с 2000-х гг. Прим.публикатора].
В истории окружающей среды экстремальные противоречия Китая имеют особые основания и эмпирический базис, достойный специального анализа. Дело в том, что ни в одном другом крупном регионе историю среды – по крайней мере в том, что касается истории сельского хозяйства и гидростроительства – невозможно проследить на протяжении тысяч лет так достоверно и последовательно, как в Китае. Даже Европа, если говорить об Античности и Средних веках, далеко не так богата историческими свидетельствами, не говоря уже об Индии, Африке или Америке.
«Я хочу показать тем, кто учит сельскому хозяйству, народ, который без всякой науки… нашел философский камень – тот самый, что те в слепоте своей тщетно пытаются отыскать».
Таким миссионерским тоном открывает свое 49-е «Письмо о химии» Юстус Либих[112]. Это письмо – настоящий гимн китайцам. Китай, как пишет Либих, это земля, «плодородие которой в течение последних трех тысяч лет не снижалось, а беспрестанно росло», при том, что «на одной квадратной миле» здесь «живет больше людей, чем в Голландии или Англии». «Беспрестанно росло»: чудо, которое в принципе противоречит теории Либиха. Какова его причина? В Китае, по Либиху, не знали и не ценили «никакого иного навоза, кроме человеческих испражнений». «Ценность этого удобрения настолько высока, что каждый знает, сколько исходит из человека за день, за месяц, за год». Китаец считает более чем невежливым, если гость покидает его дом, не вернув ему в отхожем месте потребленные им питательные вещества (см. примеч. 41).
В то же время немецкий «лютер гигиены», франкфуртский коммунальный политик Георг Варентрап, поборник ватерклозетов и общесплавной канализации, буквально кипел от ярости по поводу «китайского мошенничества». Сами по себе «фекальные факты» он не оспаривал, но для него они были признаком вонючего бескультурья, и то, что Либих считал замечательной преемственностью, Варентрап называл «трехтысячелетним застоем». То, что жители Восточной Азии, включая японцев и вьетнамцев, уделяют большое внимание вторичному использованию человеческих экскрементов, есть многократно установленный факт, отчасти объясняемый нехваткой навоза животного происхождения. Раньше китайских крестьян-арендаторов обязывали пользоваться хозяйскими уборными, а человеческими испражнениями – так называемой ночной землей – бойко торговали. Говорили, что вблизи городов почва самая плодородная из-за обильно поступающей «ночной земли». Еще в начале XX века поступали сообщения о том, что подготовка органических удобрений – в первую очередь человеческого происхождения –
«занимает до шести месяцев трудового календаря китайского крестьянина».
Многочисленные, сменяющие друг друга, процедуры немало удивляли европейских наблюдателей. Коммунистическая «Красная армия» (позже – Народно-освободительная армия Китая)[113] пыталась завоевать доверие крестьян, собирая собственные экскременты и передавая их крестьянам в качестве удобрения (см. примеч. 42).
Пожалуй, ни одна книга не сыграла такую роль в становлении всемирного мифа о нерушимости китайских почв, как роман «Добрая Земля» (1931)[114]. Его автор, американка Перл Бак, выросла в Китае и знала жизнь китайского крестьянства из первых рук. Если людям засухи и наводнения приносят смерть и беду, то земля остается в добром здравии: таково послание этой книги, затмевающей всю немецкую литературу «крови и почвы» того времени. Землю портит только лень и безнравственность. Поэтому Ванг Лунг, герой книги, не хочет покупать землю своего дяди:
«Год за годом, 20 лет, он выжимал урожай из своей земли и ничего не возвращал ей – ни удобрения, ни заботы. Земля истощена».
Почва и традиционные крестьянские добродетели, напротив, в конце спасают от всех напастей.
Для сторонников интенсивного мелкокрестьянского хозяйства Китай – лучший пример того, в какой мере мир мелких землевладельцев (smallholders) с их орошаемыми террасами способен выдержать рекордный рост населения. Однако для многих других, в том числе для многих китайцев, Китай – тяжелейший пример того, как перенаселенность регулярно ставит страну на грань катастрофы – и экономической, и экологической. С этой точки зрения именно тенденция к интенсивному рисоводству, поощряющая рост рождаемости – как будто большее количество рабочих рук все еще создаст больше продовольствия, – и есть проклятие Китая. Два ведущих сотрудника Китайской службы охраны окружающей среды описывают китайскую экологическую историю последних четырех тысячелетий исключительно как функцию демографического развития: сильный рост населения всегда означает ухудшение экологических условий.
«История научила нас, как высока плата за взрывной рост рождаемости и деградацию окружающей среды».
Большая часть истории Китая прошла под знаком периодического голода. Так это видел и Мальтус, для которого Китай служил предостережением, и так это видели в ту же эпоху все большее число китайцев (см. примеч. 43). К двум великим кошмарам Китая – бушующим рекам и наплывам кочевников, добавляется третий – волна стремительно растущего населения.
Китайцев обвиняли даже в прямой враждебности к природе. Для жителя Центральной Европы убедительным доказательством этого было отсутствие леса на значительной части Китая. Самые авторитетные свидетельства принадлежат барону Фердинанду фон Рихтгофену (1833–1905), знаменитому немецкому путешественнику и синологу XIX века. Лучше всего он знал Северный Китай, много изучал лёсс с его каньонами и лабиринтами. Из его трудов следует, что китайская культура обязана своим долголетием в основном природному плодородию, даже «самоудобряемости» своих лёссовых почв, а не фекальным удобрениям, о которых он говорит мало и скорее пренебрежительно.
Он смеялся над западными синологами, попадавшимися на удочку китайских самовосхвалений, и не находил вообще ничего, чем китайцы отличались бы от европейцев в лучшую сторону, зато отвратительных черт – с лихвой.
«В уничтожении растительности китайцы печальным образом преуспели. Предки нынешних поколений уничтожили леса, затем были истреблены и последние остатки кустарников».
Кое-где, как пишет Рихтгофен, из земли выдирают траву вместе с корнями, чтобы сжигать ее.
«Столь греховное обращение с дарами Божьими, какое сверх всякой меры свойственно жителям этих мест, им еще тяжело отмстится».
Тем не менее Рихтгофен приходит к выводу:
«Китай не перенаселен, как кажется многим…».
Есть еще гигантские незаселенные хребты, на которых можно было бы пасти овец и таким образом прокормить людские массы. Использование последних свободных пространств, выпас даже на самых скудных горных хребтах: экологические кризисы бывают порой таковы, что порождаемые ими стимулы к действиям только ухудшают кризисы! Прав ли был Рихтгофен, предполагая, что китайцы уничтожили свои леса – уверенности нет: есть данные пыльцевого анализа, вызывающие сомнения в том, что лёссовые районы Северного Китая были когда-то покрыты лесом. Так или иначе, но во времена Рихтгофена китайцы хозяйничали в лесах Манчжурии и Внутренней Монголии без всякого зазрения совести (см. примеч. 44).
Сегодня общая интерпретация отношений человека и природы в Китае не сводится к вопросам лесов или сточных вод, а обсуждается на более сублимированном уровне. Древнекитайский даосизм с его любовью к дикой природе стал популярным в экологическом движении, экологические историки Китая обсуждают значение духовных традиций в реальной жизни. По мнению синолога Герберта Франке, бережное отношение к природе заложено уже в конфуцианстве. Он приводит цитату из «Бесед и суждений»:
«Учитель всегда ловил рыбу удочкой и никогда – сетью; он стрелял птицу летящую и не стрелял птицу, сидящую на гнезде»
(см. примеч. 45)[115]. Так, проявлялась забота о восстановлении численности рыбы и дичи.
На этом трогательном фоне работы немецкого синолога Гудулы Линк кажутся холодным душем. Представление о единстве человека и природы в Древнем Китае она считает маркером «ошибочного пути», «долгой традиции» европейских заблуждений. Она считает, что ностальгию по природе, которой пронизаны китайские литература и искусство, западные почитатели Китая приняли за отражение обращения с природой в реальной жизни и не поняли, что это лишь негативный отпечаток действительности, глас отшельников и странников, выражение «досады от мира» и отречения от него (см. примеч. 46).
Другие исследователи, рисующие мрачную картину экологической истории Китая, например, Марк Элвин и Вацлав Смил, также резко возражают против смешения истории религиозно-философских воззрений с реальной историей обращения человека с природой. В целом проблема взаимодействия духовной культуры и аграрного хозяйства еще далеко не решена, и дискуссия в основном топчется на месте. Отчасти речь идет о принципиальном споре между теми, кто из всех факторов общественного развития выше всего ставит культуру («культуралисты»), и теми, кто делает ставку на экономические факторы («экономисты»). Приводимые аргументы отчасти пусты, например, что китайские крестьяне – как все крестьяне в этом мире – рубили леса, занимались подсечно-огневым земледелием, убивали животных и использовали почвы для своего пропитания.
Все это само собой разумеется и не доказывает ни релевантности, ни нерелевантности конфуцианских и даосистских идей о природе. Важно, формировалось ли у них устойчивое хозяйство: с этого места дискуссия часто идет по следам Либиха. Понятно, что культура – не «ничтожно малая величина» (Quantite negligeable), но функционирует она преимущественно в связке с практическими правилами и дееспособными инстанциями. Даже Джозеф Нидэм[116], великий знаток истории китайской науки и техники, хотя в целом и занимает материалистическую позицию, но считает, что «wu wei«, позиция невмешательства в природу и общество, имеет в Китае вполне практическое значение. Речь идет о своего рода принципе «невмешательства» (laisser-faire), которое оказывает на отношения человека с природой порой стабилизирующее, а порой дестабилизирующее воздействие (см. примеч. 47).
Но это не единственная китайская традиция:
«Пожалуй, ни одна страна, – пишет Нидэм, – не знает столько легенд о героических инженерах»,
особенно в отношении регуляции речных русел. Правда, даже здесь можно встретить философию «wu wei» – лучше предоставить воде путь, чем ставить ей фронтальные заграждения. Хиа Янг, великий инженер эпохи Хань, «гидравлик-даосист», советовал оставлять Янцзы как можно больше места – реки, объяснял он, подобны детским ртам: если пытаться их заткнуть, они либо завопят еще громче, либо задохнутся. Похоже, китайская гармония между человеком и природой – это не только мечты поэтов-вагабундов и ученых отшельников! Учение фэн-шуй, древнекитайская геомантия, имеет вполне практическое значение, хотя и не всегда в понимании современной экологии. Около 1760 года в окрестностях Ханчжоу собралась многочисленная оппозиция, выступавшая против каменоломни, потому что та нарушала природные силы земли (см. примеч. 48).
Для понимания истории Китая важно учитывать фундаментальную разницу между его севером и югом. На пространствах Северного Китая земледелие не нуждается в искусственном орошении; глубокие лёссовые почвы – царство тяжелого плуга и воловьей упряжки. Вплоть до XX века главным продуктом питания здесь был вовсе не рис, а сорго – злак африканского происхождения, похожий на просо и предпочитающий сухие почвы. Для Среднего и Южного Китая характерно в первую очередь заливное рисоводство на искусно орошаемых террасах. Там крестьянин до сих пор работает в основном мотыгой и лопатой и не имеет крупного скота. В Северном и Среднем Китае основные аграрные регионы лежат на равнине и в долинах крупных рек, на Юге люди целиком зависели от террасирования гор. Главные опасности Северного Китая – наводнения и приносимый реками ил, Южного – нехватка воды и эрозия почвы. В более давние времена главные центры Китая располагались в основном на Севере, в Новое время центр тяжести сместился к Югу: соответственно изменились и доминирующие проблемы.
Что же на этом фоне считать кризисом? Пока китайская культура концентрировалась в долинах Хуанхэ и Янцзы, она страдала прежде всего от наводнений. Тяжким бременем были также гигантские илистые наносы этих рек, приподнимавшие ложе реки. Они заставляли жителей увеличивать высоту дамб и вызывали периодическое смещение русел. Илистые разливы Хуанхэ в 25, а Янцзы – в 38 раз больше, чем разливы Нила. Но эти опасности и даже стихийные бедствия не обязательно означают экологические кризисы, ведь их эффект был тот же, как при благодатных разливах Нила: они несли на поля массы плодородных частиц, иногда даже создавали новые земли, затем становившиеся полями (см. примеч. 49). Эрозия тоже не всегда вредит людям, она может способствовать переносу почвы с малодоступных горных склонов в удобные для плуга речные долины. А повышение речного дна усиливает опасность наводнений, но облегчает полив: воду к полям можно подводить и без водокачек. Контрасты китайской истории – это отчасти две стороны одной и той же медали. А разрешение экологических проблем и появление новых не всегда легко отделить друг от друга.
Для Витфогеля Китай был архетипом гидравлического общества, именно на его примере он развил свою теорию. Нидэм в принципе соглашался с ним и подчеркивал, что многие китайские ученые также видели истоки бюрократии в решении гидростроительных задач (см. примеч. 50). Связь между гидростроительством и властью в Китае неоспорима, вопрос только в том, каков был характер этой связи, где именно и в чем она проявлялась во взаимодействиях человека и природы.
В основных регионах древнекитайской культуры, как в Египте и Месопотамии, земледелие могло обходиться и без искусственного орошения, а когда его ввели, то для контроля и разрешения конфликтов обычно хватало людей, авторитетных на уровне своей деревни. Происхождение китайского государства из решения задачи орошения не доказуемо, если подходить исторически, и не очевидно, если исходить из существа вопроса. В древней народной песне еще до основания единого государства в 221 году до н. э. пелось:
«Мы роем колодцы и пьем, мы пашем поля и едим, что нам за дело до власти господина!» (см. примеч. 51).
Но если орошение не требовало более высокой власти, то этого нельзя сказать об отведении воды и защите от наводнений. Они и служили основным путем легитимизации императорской власти в Китае. Классический гидравлический миф о становлении, впоследствии самым невероятным образом разукрашенный китайскими учеными, – история о легендарном инженере-императоре Юе Великом. Юй изменил направление водных потоков, открыв новые стоки и углубив речные русла, и таким образом спас китайцев от превращения в рыб (см. примеч. 52). В образе Юя Великого китайцы обрели идеал более энергичного и популярного технолога, чем западный Ной, спасший во время Всемирного потопа в своем Ковчеге лишь самого себя и избранных животных.
О том, что окончательно победить воду невозможно, китайцы, конечно, знали. Сыма Цянь, основоположник китайской историографии (ок. 145-90 годов до н. э.), рассказывает об отчаянии императора Хань при виде разрушенной дамбы:
«Река прорвала дамбу под Ху-цу. Что нам делать?…Все деревни превратились в реки, и во всей стране нет никакой защиты».
Более долгую славу, чем строительство дамб, обещало строительство каналов. Они служили обычно главным образом для судоходства, в первую очередь для снабжения столицы зерном. Орошение полей, еще одна важная функция каналов, уходила по сравнению с этим на задний план и даже могла быть полностью перечеркнута. Нельзя сказать, что строительство крупных каналов всегда и везде имело смысл. Сыма Цянь рассказывает историю, произошедшую еще до объединения Империи. Чтобы предотвратить экспансию на восток царства Цинь (того самого, которое впоследствии объединило под своей властью Китай), князь Хань склонил это государство, с воодушевлением относившееся к крупным проектам, к участию в строительстве каналов. Он отправил к ним инженера Хенг Куо, которому и вправду удалось уговорить императора Цинь начать строительство канала, известного впоследствии как канал Хенг-Куо – предприятие для того времени почти безумное. Строительство продолжилось и после того, как мошенничество было разоблачено. Более того, его ждал успех: создание еще одного региона, богатого хлебом. Нидэм считает, что эта история имеет реальную подоплеку (см. примеч. 53).
Но далеко не всегда практическая польза императорских каналов была так ясна для народа. Император Суй Ян-ди, который около 600 года н. э. возобновил строительство Великого канала, остался в исторической памяти правителем нерачительным и жестоким, хотя и романтично влюбленным в природу. В реальности этот канал служил в первую очередь для сбора податей, а его дамбы скорее способствовали наводнениям, чем защищали от них. Это относится к любым дамбам и заложено в самой их природе: смысл их состоит исключительно в том, что они направляют ток воды в определенную сторону, так что окружение реки дамбами только увеличивает мощь потока. В китайской истории нет конца катастрофическим наводнениям. Поскольку усмирение вод было частью мифа о могуществе империи, наводнения считались признаком коррупционности правительства. Разрушительные разливы Хуанхэ около 1200 года, ослабив правящую династию, освободили путь монгольскому завоеванию. Затем, около 1350 года разлив той же Желтой реки послужил, в свою очередь, падению монголов.
В те времена монгольский главнокомандующий Тогто задумал гигантский проект. Несмотря на ярые возражения китайских советников, он решил прорыть новый канал к югу от полуострова Шаньдун и перенаправить в него воды Хуанхэ. Причиной восстания стало не только само наводнение, но и принудительные работы на строительстве этого канала. Как показывает Клаус Флессель, гидростроительная администрация средневекового Китая отличалась не столько централизацией, сколько «дремучестью», невнятностью полномочий. Уже в то время ее неэффективность стала предметом критических дискуссий, тем более что ее неудачи были очевидны (см. примеч. 54).
Однако сменить всю систему никто не требовал, все время раздавались только призывы о лучшем императоре и лучших чиновниках. В Новое время император Китая приказывал, чтобы на картинах его изображали во время инспекции затопленных наводнением районов и контроля над строительством дамб. Но в 1854–1855 годах Желтая река вновь перенесла свое устье на почти 500 км к северу, что стоило жизни миллионам людей. Это было время Тайпинского восстания: стихийные бедствия сыграли немалую роль в ослаблении авторитета правительства [автор вполне предсказуемо забывает ужасы двух «опиумных войн». Прим.публикатора]. Ни одна река мира в исторические времена не приносила людям столь страшных бед и разрушений.
«Гигантские работы по сооружению дамб требовали постоянных усилий всего населения, но их постройки оказывались игрушками по сравнению с мощью полноводного потока».
До появления бетона фундамент дамбы всегда делали из глинистой почвы и песка, так что непрестанная речная волна легко подмывала его. Без организованной работы огромных человеческих масс подобные сооружения не имели бы смысла. Чем больше росло население, тем ближе подходили селения к берегам реки и тем меньше люди могли следовать древней даосистской мудрости и оставлять место речным разливам. «Традиционный метод» «предоставить путь реке» превратился в ностальгическое воспоминание. И тем страшнее становились разливы реки, когда она вырывалась из суженного людьми ложа. Еще в 1947 году партия Гоминьдан и коммунисты – смертельные враги – сообща трудились над поворотом к северу русла Хуанхэ, вновь смещавшегося к югу. Гидростроительные работы служили моральным стимулом к национальному единству (см. примеч. 55).
По сей день для Китая характерны не гигантские водохранилища, а деревенские пруды, такие же как в Индии. Всего в стране их насчитывается свыше 6 млн. Это не означает, что деревенское сообщество было способно справляться со всеми проблемами, связанными с водой. Возникает впечатление, что отдельные авторы, в раздражении на Витфогеля, сильно преуменьшают потребность в управлении орошением. Одно из наиболее захватывающих региональных исследований по экологической истории Китая повествует о почти 900-летней истории озера Сян, водохранилища для полива посевов, заложенном в 1112 году к юго-западу от Ханчжоу. Лейтмотив книги – многовековая борьба между частными землевладельцами, желавшими осушить части озера, чтобы получить больше пахотной земли, и неподкупными чиновниками, сохранившими озеро на всеобщее благо, – типаж не слишком частый и тем более достойный особой славы. Именно такие озера в Китае стали основой того представления об общем благе, нуждающемся в защите от частного эгоизма, которое лежит в основе современного экологического сознания. Шаткость политических устоев находит свое отражение в состоянии озера – площадь его периодически сокращается, озеро заиливается. Этот пример не единичен: в других местах слабость и коррупция администрации также выражается в том, что часть водоема осушают и забирают под пашни, хотя в сознании общества он олицетворяет общее достояние. Особенно много таких примеров приводят для XIX века. Что касается озера Сян, то оно было полностью осушено только при коммунистической власти, которая хотя и уничтожила землевладельцев, но не планировала в дальнейшем использовать озеро для орошения (см. примеч. 56: «утверждается, что еще при коммунистической власти в Китае строились «тысячи мелких водоподъемных плотин», которые «поддерживались в рабочем состоянии самоуправляемым местным населением» ).
Примером проблем другого типа, но тоже связанных с интересами частных лиц в освоении земель, служит то, что происходило с XVI по XIX век на среднем течении Янцзы. Здесь землевладельцы отгораживали дамбами части поймы, усиливая тем самым угрозу наводнений. Эту взаимосвязь хорошо понимали уже современники. Дилемма и здесь часто состояла в том, что китайское государство де факто не было настоящей «гидравлической деспотией», однако строило или позволяло строить такие сооружения, которые в критических ситуациях нуждались в более эффективной власти центра (см. примеч. 57). Это происходило главным образом при освоении экологически хрупких горных регионов, население которых затем росло и росло, и при расширении посадок риса.
Однако тезис Марка Элвина, что вся экологическая история Китая – это «три тысячи лет истощительного роста», не подтверждается. Китайскому сельскому хозяйству, безусловно, долгое время была присуща высокая степень стабильности, и с ростом посадок риса она даже усиливалась. Широкомасштабный экологический кризис, по мнению большинства исследователей, стал назревать главным образом в XVIII веке, а в XIX вошел в критическую фазу и стал очевидным (см. примеч. 58). Примечательно, что развитие Китая в то время стало в некоторых отношениях совпадать с развитием Европы, и в этих поразительных параллелях обретает смысл идея всемирной экологической истории. В XVIII веке в обоих регионах появляется стремление использовать природные ресурсы до последнего предела, не оставляя природе никаких пустот, никаких скрытых резервов. Именно наивысший успех в освоении земель привел к самому тяжелому экологическому кризису: в этом отношении судьба Китая может служить предостережением современному индустриальному обществу.
В XVIII веке авторы европейских аграрных реформ, ратовавшие за освоение и использование каждого пустыря, ликвидацию «пара» и неутомимое усердие, восторгались при виде китайских рисовых террас. Китайский крестьянин расхохотался бы, услышав, «что земля в определенное время нуждается в отдыхе», писал Пьер Пуавр[117] в 1768 году. «Ни дюйма земли» китайцы не оставляли нераспаханным, «до самого уреза воды» застраивали они берега каналов и рек, даже самые каменистые холмы «трудом своим» они «принуждали приносить зерно», «даже самые отвесные скалы» использовали. Насколько уязвимым сделало Китай освоение последних резервов, Пуавр не понял. В отличие от Западной и Центральной Европы, Китаю не удалось ни индустриализация, ни модернизация административной системы, которые смягчили бы последствия экологического кризиса и могли бы выдержать рост демографического давления.
Последний вентиль этому давлению открыла династия Цин, когда в 1859 году, после тайпинского восстания, передала сельским поселенцам недоступную для них ранее Манчжурию, прежде занятую манчжурами, сохранявшими кочевой образ жизни. В начале XX века то же произошло и с Внутренней Монголией, пережившей после этого «взрывоподобную колонизацию». У Китая все еще оставалось немало пастбищ, но использовать их китайцы умели только для земледелия, а оно открывало дорогу эрозии почв (см. примеч. 59).
Нагрузка на природные ресурсы Китая стала опасно возрастать уже в Средние века. В XI–XII веках под давлением вторгавшихся с севера кочевников, а если верить Герберту Франке, то и вследствие истощения почв в Северном Китае, началось усиленное переселение на юг, сопровождаемое интенсификацией заливного рисоводства. Некоторые исследователи говорят о той эпохе как об аграрной революции или новой аграрной модели потока энергии. В «Жалобе крестьянина» XII века значится:
«Где есть гора, мы покрываем ее рисом, где мы находим воду, мы всю ее тратим, чтобы сажать рис… Такая работа отнимает у нас все силы, все в надежде получить хоть немного покоя» (см. примеч. 60).
Завоевание Китая монголами остановило смещение китайских центров силы на юг. Но в XV и XVI веках династия Мин стала форсировать аграрное освоение юга. Усовершенствование удобрений увеличило урожаи, а улучшение полива и появление скороспелых сортов позволили получать их дважды в год. С XVIII века в тех регионах, где нельзя было выращивать рис, перешли на картофель и кукурузу, так что резкий рост численности населения продолжился. Как и в Европе в то время, правительства успешно проводили политику повышения рождаемости, однако же, когда были достигнуты пределы роста, перейти на политику ограничения рождаемости они не смогли. Опасность перенаселения и сверхэксплуатации ресурсов ясно осознавалась, в том числе в кругах высшего чиновничества.
Теория, что экологический кризис и кризис перенаселения начались в Китае в XVIII веке, опирается на свидетельства очевидцев. Здесь также можно усмотреть аналогию между традиционным Китаем и современным обществом: дискурсы об устойчивости, о необходимости смотреть в будущее имели место, но большей частью парили высоко над миром повседневных практик. Около 1950 года «примерно половина горных и холмистых земель» Китая были «обесценены эрозией». Лёсс с его мельчайшими частицами особенно подвержен эрозии. Для полноценного ухода за террасами нужна традиционная сельско-крестьянская культура, а она была нарушена тенденциями современного развития. По сегодняшним расчетам, на севере Китая ежегодно теряется 1,6 млрд тонн плодородных лёссовых почв, и одна из причин этого – недостаточный уход за террасами.
Самым уязвимым пунктом в освоении горных регионов Китая, да и в обращении с окружающей средой в целом, считается сокращение площади лесов, в том числе там, где они необходимы для поддержания гидрологического режима и защиты от эрозии. Если в лёссовых регионах с их невероятным плодородием еще можно было надеяться обойтись без лесов, то в горных регионах Южного Китая подобная беспечность неизбежно вела к разрушительным последствиям. Вырубку обширных лесов Южного Китая называли одной из самых крупных экологических ошибок в истории человечества. Даже там, где сельское хозяйство с трудом, но сохраняло экологическое равновесие, дефицит дерева привел к потере питательных веществ – в качестве топлива использовали стерню, которая в противном случае оставалась бы на полях и служила бы удобрением (см. примеч. 61).
Некоторые очевидцы осознавали, к чему ведет потеря лесов, – жалобы на вырубки леса также принадлежат китайской традиции. Правда, Нидэм, цитируя такие жалобы, призывает современного читателя не вкладывать в них слишком много собственных идей. Уже конфуцианец Мэн-цзы (372–289 годы до н. э.) оплакивал прекрасные некогда горные леса, ставшие жертвой топора. Силы природы дали бы им восстановиться, «но тут пришли коровы и козы» и съели молодой подрост. Теперь горы стали голыми, и люди думают, что лесов здесь никогда и не было. «Но это ли природа гор?» Мэн-цзы считает вырубку лесов – не без сходства с современными экоидеалистами – аморальной, он связывает потерю природной доброты в людях с потерей горных лесов (см. примеч. 62). Горный лес как естество гор: это немецкое представление не чуждо было и китайцам, так же как и знание о разрушительном эффекте совместного действия лесорубов и пастухов.
Осознавали ли в то время опасность для почв и водного баланса? В доказательство постоянно приводят описание ученого XVI века Йен Синь-Фанга: еще на памяти прошлого поколения юго-восточные склоны в Шаньси были затянуты сплошным лесом. Эти леса не страдали от того, что крестьяне собирали в них хворост. Но с появлением нового правителя началось настоящее состязание в строительстве домов, и люди стали круглый год, без паузы, рубить лес. Вырубив его, они превратили облысевшие склоны в пашни, выдрали с корнями последние заросли и кусты. С тех пор при сильных ливнях ничто не могло задержать мощные потоки воды, и тем, кто жил в долинах, пришлось очень туго. По словам ученого, провинция таким образом потеряла семь десятых своего благосостояния. Эта жалоба показывает, что связь между вырубкой леса и наводнениями уже была понятна. Но именно постоянное обращение к одному и тому же источнику заставляет думать, что для столь отдаленных времен существует мало доказательств. При этом нужно помнить, что на гигантских пространствах, где протекают реки Хуанхэ и Янцзы, причинно-следственная связь между рубкой леса в дальних горах и катастрофическими наводнениями не была непосредственно очевидной: даже сегодня причинно-следственные связи такого рода не всегда можно однозначно доказать. Там, где водоохранная функция лесов проявлялась непосредственно, например, если они произрастали над орошаемыми террасами, их иногда щадили (см. примеч. 63).
Как и во многих других странах, картина обретает более теплые тона, если вспомнить про плодовые деревья. Это отмечают даже самые резкие критики экологического поведения китайцев. Рихтгофен обнаружил, что вблизи морских побережий по краю террас часто были «высажены плодовые деревья». Смил подчеркивает, что китайцы «традиционно принадлежат к самым трудолюбивым практикам лесопольного хозяйства» (см. примеч. 64). Надо вспомнить и о шелковичных культурах – основе китайской шелковой индустрии – символе Китая уже более 4000 лет! Шелковица растет медленно и живет долго, а такие свойства способствуют менталитету предусмотрительности.
Еще больше оптимизма придает бамбук. Пусть с точки зрения биологов и лесоводов бамбук – вовсе не дерево, а трава, но для жителей Восточной и Южной Азии он во многих отношениях играет ту же роль, что для европейцев «настоящий» лес – поставляет им топливо и поделочный материал. Бамбуком тоже можно восхищаться, а не только дубами. Любовь к бамбуку пронизывает китайскую живопись, поэзию и народную культуру, а выращивание этого растения относится к традиционным китайским добродетелям. Если лесное хозяйство по сравнению с японским выглядит весьма печально, то по площадям бамбука Китай превосходит Японию почти в 25 раз. Одно экологическое издание воздает должное бамбуку как средству самолечения поврежденной природы: бамбук прекрасно растет даже на самых экологически нарушенных склонах (см. примеч. 65).
В истории Китая был один драматический эпизод искусственного лесоразведения, причем задолго до того, как крупномасштабные лесопосадки начались в Европе: есть сведения, что в 1391 году под Нанкином было высажено свыше 50 млн деревьев, из которых в будущем планировали получить корабельный лес для океанского флота (см. примеч. 66). Как и в Европе, именно строительство флота впервые превратило посадку лесов в политическую задачу первостепенной важности. Однако с отказом от мореходных амбиций этот импульс сошел на нет. Продолжая сравнение с Европой, можно предположить, что китайское лесоводство лишилось таким образом политической поддержки. Тем не менее впечатление таково, что во многих провинциях Китая сведение лесов достигло критического масштаба только с ростом численности населения и освоением горных регионов в XVIII веке.
Имело место в Китае и устойчивое лесное хозяйство. Николас X. Мензис привел ряд примеров: императорские охотничьи угодья; монастырские, храмовые и общинные леса, в первую очередь насаждения китайской ели (куннингамии ланцетовидной) – основного, если не считать бамбука, полезного дерева в Китае. Крестьяне разводили куннингамию для получения не только древесины, но и веточного корма. Тем не менее все эти примеры разведения лесных культур в общем кажутся скорее исключением (см. примеч. 67). Ничтожно малое количество источников в такой богато документированной истории, как история Китая, говорит само за себя.
Этот дефицит особенно бросается в глаза в сравнении с Европой, но это же сравнение помогает его понять. Господство над лесами как основа государственной власти здесь никогда, даже отдаленно, не играло такой роли, как в Европе. Властитель становился властителем не благодаря охране леса, а благодаря его освоению. Лес пользовался дурной репутацией как прибежище бандитов и мятежников. Такого стимула к созданию высокоствольных лесов, как строительство флота, в истории Китая не было. Великокняжеские охоты как фактор лесной политики даже отдаленно не имели такого значения, как в Европе от Средних веков до барокко и позже. Хотя в древнем Китае также был период жесткого имперского контроля над охотой, нельзя быть уверенным, что это способствовало сохранению лесов. «Целые леса выжигаются ради охоты», – сетует один принц во II веке до н. э. С ростом авторитета буддизма охота приобретает сомнительный оттенок и не может больше служить темой для портретов и изображений императоров. Китайские крестьяне гораздо меньше своих европейских «коллег» были заинтересованы пасти скот в лесу, потому что скота у них было ничтожно мало. Ремесла, требующие топлива, далеко не так зависели от лесов, как на Западе, ведь в Китае уже со Средних веков добывали каменный уголь, используя его даже на металлургических предприятиях. Видимо, даже солеварни – предприятия, в Центральной Европе наиболее заинтересованные в устойчивом лесоводстве, – в Китае не имели такого значения, как в Европе (см. примеч. 68).
Вероятно, очень значимо и еще одно обстоятельство: как правило, охрана леса может быть эффективной только на местах или в пределах региона, с учетом конкретных специфических условий. Не случайно в Германии XVIII и XIX веков пионерами лесной политики часто становились мелкие, обозримые территории. Для успехов в лесоводстве Китай был слишком велик, центральная власть – слишком удалена от локальных проблем. В этом состоит и общая дилемма китайской экологической политики: когда для разрешения экологических проблем были необходимы государственные средства, дело обстояло, как правило, плохо. В повседневной жизни люди проявляли лояльность только к таким эффективно функционирующим единицам, как семья или в лучшем случае община.
Во времена Мао Цзэдуна, когда государство обрело силу, появилось и осознание значимости леса. К тому времени в Китае давно знали, что вырубки влекут за собой очень неприятные последствия, и провозглашенная около 1956 года «Великая зеленая стена» была самым крупным в истории человечества проектом создания искусственных лесов. По аналогии с Великой Китайской стеной планировалось высадить полосу лесов для защиты от наступающей степи. Однако эта работа, видимо, обернулась обычной для лесной политики ролевой игрой: охрана лесов стала малопопулярным проектом центральной власти, вступившим в противоречие с экономическими интересами регионов. Со временем стали более понятны смысл и необходимость некоторой децентрализации. Правительственная кампания по посадке деревьев в начале 1970-х годов проходила под девизом «Четырех вокруг»: вокруг домов, вокруг деревень, вокруг улиц, вокруг каналов. Тем не менее в общем кажется, что экологическая политика так и не стала конкурентоспособной в сравнении с экономическими и политическими приоритетами маоизма [тут автор привирает — стала ещё тогда, и сегодня уже ясна её успешность.Прим.публикатора]. Особенно беззастенчиво Китай, не имевший обширных собственных лесов, использовал лесные ресурсы Тибета, хотя в его высокогорных условиях лес восстанавливается очень трудно. Пожалуй, единственный шанс для возврата к политике охраны леса сегодня – это осознание того, что, вырубая тибетские леса, китайцы увеличивают угрозу наводнений в самом Китае (см. примеч. 69).
Несмотря на все расправы над экологами-оппозиционерами, в информированных кругах официального Китая происходит очевидное осознание экологического кризиса. В 1978 году два авторитетных специалиста даже предложили выделить обширные участки лёссового плато по берегам Хуанхэ под лесовосстановление и выпас: по их мнению, только возвращение к тысячелетней традиции может предотвратить регулярные катастрофические наводнения. Они указали на то, что до первого тысячелетия н. э., то есть до начала аграрного освоения лёссового плато, крупные наводнения были редкими. Такой радикальный вывод из экологической истории тысячелетий соперничает с теориями американских пророков дикой природы! Впрочем, в современном Китае любят экологически обосновывать древнюю антипатию к кочевникам и отождествлять отгонный выпас с перевыпасом. При том что современная политика Китая в сфере расселения – основной виновник сильнейшего перевыпаса во Внутренней Монголии: именно китайцы оттеснили кочевников с их огромными стадами в регионы с самой скудной растительностью (см. примеч. 70).
В заключение краткий экскурс в Японию. В западных экологических кругах отношение к Японии с 1970-х годов колеблется, как маятник: если сначала говорили о «японском экологическом харакири», о том негодовании, какое вызывала Япония у борцов с китобойным промыслом, то позже эта страна в некоторых аспектах стала служить образцом. Япония имеет собственный ярко выраженный культ природы, правда, его практическая реализация вызывает сомнения. Уже несколько веков природа занимает в Японии то положение, какое в Европе занимает религия и философия, как заявил в 1989 году бургомистр Нагасаки одному немецкому интервьюеру. В начальных школах Нагасаки, по его словам, «каждый школьный гимн» начинается «со строк о горах позади школы, о пенящемся ручье перед ними и вишневых деревьях вокруг нее». О том, «кто несет ответственность, кто что сделал», напротив, никогда не спрашивали (см. примеч. 72).
Тем не менее если в последние века Япония проводила относительно успешную политику защиты почв, то это было связано скорее с практическими соображениями, чем с любовью к природе. В тесном пространстве островной империи с ее хрупкой горной экологией пределы роста, начавшегося в Новое время, попали в поле зрения раньше, чем в Китае: уже в начале XVIII века периодический голод давал понять, что ресурсы на исходе. Однако около 1800 года, когда положение Китая становилось все более безнадежным, Япония уже вновь могла обходиться своими небольшими ресурсами: эра стагнации перед насильственным открытием Японии коммодором Перри[118], очевидно, имела экологический смысл. Рост численности населения на островах прекратился около 1720 года, в то время как в Китае именно в это время он ускорился.
По сравнению с Китаем Япония обладала решающим преимуществом: малыми размерами, обозримостью. В ее ограниченных пределах лояльность по отношению к государству могла развиться легче, чем в огромной империи. Здесь имели успех даже кампании по созданию искусственных лесов, начатые в конце XVIII века (примечательное совпадение с Европой!). Вероятно, раньше и яснее, чем в Китае, в Японии осознали роль леса в поддержании водного режима рек. Для восстановления лесов японцы очень рано начали высаживать деревья, а не только, как это было поначалу в Европе, управлять рубками и естественным лесовозобновлением. При этом – в прямой противоположности к Европе! – хвойные леса они переводили в смешанные хвойно-лиственные. В то время как в немецких регионах лесорубов, не желавших отказываться от топора, принуждали использовать пилу[119], в некоторых провинциях Японии в целях охраны леса пилу запрещали! Благодаря посадкам лесов Япония, выдержав определенный период нормирования в использовании древесины, смогла позволить себе сохранить традиции деревянного строительства – идеальные для страны, подверженной угрозам землетрясений (см. примеч. 72). Еще в начале 1950-х годов главным топливом японцев оставался древесный уголь. В 1949 году площади, покрытые лесами, составляли в Японии 68 % территории страны, а в Китае – всего лишь 8 %. При этом японцы, хотя и создали «деревянную культуру», по традиции не слишком эмоционально относятся к лесу; гораздо более сильные чувства вызывают у них родники и источники. Но и через эту любовь может формироваться чувство леса. Основное объяснение лесистости Японии кроется, очевидно, в том, что большая часть страны занята крутыми горами, непригодными для земледелия. С 1960-х годов Японии с ее сильной валютой было нетрудно закупать древесину в Новой Гвинее и других развивающихся странах, где японские фирмы завоевали себе дурную славу из-за нещадных сплошных рубок (см. примеч. 73).
По сравнению с Китаем у Японии были все преимущества, которые дал ей путь автономного развития: на ее острова не вторгались кочевники, да и европейский империализм тревожил Японию лишь периодически. Но об экологическом значении империализма речь пойдет далее.
5. Культуры на воде в малом пространстве: Венеция и Голландия
В небольшом пространстве сложность отношений между водой и человеком была осознана очень рано, и рано стала предметом тонко сбалансированной и относительно эффективной политики. Хрестоматийные примеры такой политики в пределах Европы дают Венеция, выросшая на островах Венецианской Лагуны, и Голландия, расположенная на землях, отвоеванных у моря. И та и другая были своеобразными государственными образованиями, и та и другая по-своему добились большого успеха и в определенный период истории вызывали восхищение всей Европы. Оба государства были пионерами морской торговли, гидростроительства и аграрного прогресса. Как и в случае Японии, создается общее впечатление, что экономическая и экологическая энергии внутренне связаны, даже если они нередко друг другу мешают. Если исходить из идеала «нетронутой природы», то в истории среды и Венеция, и Голландия предстанут как исключительно негативные примеры высочайшего градуса искусственности. Если же, напротив, принять за образец бережное и предусмотрительное переустройство естественной среды, то по крайней мере Венеция в период ее расцвета может служить идеалом.
Венецианцам с самого начала было ясно, что они живут на неустойчивом фундаменте. Как бы ни прославляли венецианцы свою Serenissima (Венецианскую республику), но вся ее история пронизана экологической тревожностью, периодически доходящей до полного пессимизма и ожидания конца света. Может быть, поразительная тысячелетняя стабильность Венеции обусловлена именно тем, что ее жители никогда не могли положиться на окружавшую их среду. Как пишет один венецианский летописец, природа всегда вела против Венеции «невыразимо жестокую войну». Известна история о том, как в 1224 году после разрушительного землетрясения во Дворце дожей[120] серьезно обсуждались планы переселения всего населения Венеции в завоеванный в 1204 году Константинополь, и этот проект, поддержанный самим дожем Дзиани, провалился при голосовании с меньшинством всего в один голос. Но если эта невероятная история верна, то это значит, что многим венецианцам требовался очень длительный срок, чтобы идентифицировать себя со своим сложным природным окружением (см. примеч. 74).
Венецианская морская республика
Если пользование природными ресурсами в Венеции очень рано привело к становлению своего рода экологической политики, то это можно объяснить тем, что связь с водой порождала здесь импульсы к разнонаправленным действиям, а это вынуждало людей к многоплановому, «сетевому» мышлению. Чем больше разворачивалась венецианская экономика, тем меньше для решения экологических проблем подходили стандартные меры, шла ли речь об охране вод или их отведении. Нужно было все время иметь в поле зрения не одну реакцию, а целую их цепочку, и уметь находить баланс различных интересов. Реки, впадавшие в Лагуну, служили торговыми путями, однако они несли в нее не только воду, но и ил. Нелегко было решить, какой эффект перевешивал, благоприятную или злокозненную роль сыграло бы отведение речных русел от Лагуны. Еще в XVII веке один знаток говорил, что при решении гидростроительных вопросов можно «с большой легкостью впасть в самые страшные заблуждения» (см. примеч. 75). Необходимо было действовать с осторожностью, избегать примитивных мыслей и решений, постоянно собирать и обсуждать новый опыт. Венецианский стиль принятия решений в экологических делах тоже нередко служил образцом.
Уже в Средние века окружающая среда как ценнейшее достояние, источник жизни обретает для венецианцев конкретное воплощение в их Лагуне[121] – такой, какую они видели вокруг себя: наполовину море, наполовину озеро, с многочисленными островами и косами. Тогда здесь присутствовали и мощные экономические интересы, сегодня почти полностью ушедшие в небытие: солевары и рыболовы. «В избытке у вас одна только рыба», – писал в VI веке о жителях Венецианской Лагуны Кассиодор[122]. «Все ваше рвение и пыл сосредоточены на солеварнях… оттуда и все ваши доходы». В расцвете Венеции как торговой метрополии большую роль сыграла добыча морской соли. Приток в Лагуну пресной воды был для соледобытчиков опасен, и в северной ее части они со временем разорились: наряду с илом и малярией это было еще одним доводом для переброски впадающих в Лагуну рек. Лагуна не была такой необозримой, как море, и венецианцы рано поняли, насколько опасен чрезмерный вылов рыбы. Они предпринимали против него энергичные меры: рыбачьи сети подлежали строгому контролю на размер ячеи (чтобы через них могла проходить молодь), а чреватые подрывом рыбных запасов «дьявольские изобретения», как гласило установление 1599 года, были строго запрещены (см. примеч. 76).
Важнейшими задачами венецианцев в течение нескольких первых столетий были осушение частей Лагуны, получение земли для растущего населения и подготовка полей и пастбищ. Однако постепенно мышление перестраивалось: с XV века осушение перестало толковаться как триумф над водной стихией. В заиливании, обмелении, прекращении циркуляции воды в Лагуне стали усматривать смертельную опасность. Теперь каждый последующий шаг в освоении земли подлежит суровому контролю и кадастровым ограничениям. Политика в области окружающей среды становится инструментом венецианской власти, не в последнюю очередь по отношению к поселившимся в Лагуне церковным орденам. Остров Торчелло, который со своими двумя древними церквями среди болот и камыша кажется современному туристу олицетворением красоты всей Лагуны, в глазах венецианцев служит страшным предостережением: заболачивание не только лишило судоходства некогда цветущий торговый город, но и «одарило» его малярией, видимо, также как много раньше произошло с могущественной Аквилеей[123].
Венецианцы начинают ценить береговое положение и морскую воду. С XV века и даже раньше основным мотивом городской политики стал панический страх перед любыми проявлениями заболачивания.
«В согласии с пословицей «свая делает болото» (Palo fa paluo), которая означает, что одной сваи достаточно, чтобы превратить часть Лагуны в болото, Светлейшая Республика Венеция объявила войну сваям и постройкам на сваях и не останавливалась ни перед чем… На мостки, причалы, сваи, дома-лодки градом посыпались денежные штрафы» (см. примеч. 78).
Из всех возможных аргументов в пользу сохранения Лагуны самым весомым был военный: для Венеции Лагуна была стеной, оборонительным сооружением. Венеция была единственным крупным городом в средневековой Европе, который с XII века, то есть с момента разрушения венецианских крепостных сооружений, не имел городской стены. Говорили, что Венеция гораздо лучше защищена своей Лагуной от нападений, чем другие города – их стенами. И вправду: венецианцам достаточно было всего лишь вытащить сваи на скрытых под водой судоходных путях, чтобы в Лагуну не могло попасть ни одно чужеземное судно.
Экологические интересы легче всего отстаивать тогда, когда они совпадают с интересами военными. В середине XV века и позже венецианцы изменили течение Бренты, Пьяве и еще шести других рек, грозивших заиливанием, направив их русла вокруг Лагуны. Согласно Браунштейну и Делору, это были «самые гигантские» работы по «корректировке ландшафта» в истории старой Европы. В 1488 году во Дворце дожей проект переноса русла Бренты обосновали острейшими формулировками: абсолютно очевидно, что эта река угрожает Венеции «полным разрушением и опустошением» (см. примеч. 79).
После 1500 года гидростроительные усилия Светлейшей Республики резко набирают обороты. В ситуации, когда гегемония Венеции на суше и на море оказалась под угрозой, ее жители с удвоенной энергией возвращаются к тщательному и заботливому обустройству своего небольшого мира. В 1501 году все полномочия, касающиеся воды, были переданы новообразованному Управлению водных ресурсов (Magistrato all’Aqua) и трем «водяным мудрецам» (savi all’acque). В обосновании на первом месте стояла забота о здоровье (salubritas) города. Вскоре после этого, в 1505 году, к ним была добавлена Августейшая коллегия водных ресурсов (Collegio Solenne all’Aque), «своего рода суперкомиссия», вобравшая в себя высшие авторитеты, в которую входили дож, три председателя Совета десяти[124] и другие высшие лица Дворца дожей. В обосновании говорилось о важности вопросов, связанных с водой, подчеркивалось, что от них зависит единство всего государства и – с особой остротой – что здесь требуется срочность. Торопливость, в высшей степени непривычная для того времени! Очевидно, Августейшая коллегия оказалась недостаточно поворотливой, и в 1531 году к «трем мудрецам» в качестве исполнительной власти были приставлены три «исполнителя по водным ресурсам» (esecutori all’Acque). Участвовавший во всем этом Совет десяти, все более становившийся механизмом координации власти, оправдывал свои особые полномочия необходимостью срочного реагирования в кризисных ситуациях (см. примеч. 79).
В Венеции, как и в Китае, вода и власть были тесно связаны. Связь эта и здесь и там со временем усиливалась, прежде всего под воздействием кризисов. Венеция с ее громкой репутацией первой европейской республики выглядит убедительным аргументом против теории Витфогеля о деспотической тенденции гидростроительства. Сам Витфогель считал Венецию «негидравлическим» государственным образованием. Однако венецианская система имела и тоталитарную сторону, дававшую пищу для темных легенд. Снабжение питьевой водой тем не менее было децентрализовано: более 6 тыс. цистерн (pozzi) принадлежали в основном частным лицам или подлежали контролю гильдий и городских кварталов. Хватало их не всегда. Окруженные водой венецианцы «несколько раз за свою историю были близки к смерти от жажды» и на лодках доставляли речную воду из Бренты (см. примеч. 80).
Климат в Лагуне нельзя назвать здоровым. Но Венеция была совсем не склонна фаталистически принимать эту немилость природы. В своей санитарной политике она, как и другие города Северной Италии, намного опередила большую часть Европы. Современная «политика в области окружающей среды» – это в значительной степени политика в области здравоохранения, и такая конфигурация уходит далеко в историю. Для Венеции это было совершенно естественным – вся ее водная политика, будь то осушение болот или ограничение притока пресных рек в Лагуну, определялась профилактикой малярии.
Даже на эпидемии чумы, самые страшные катастрофы в истории Венеции, город реагировал мерами экологического характера. Без современной микробиологии, вопреки господствовавшему тогда в медицине учению о соках[125], венецианские власти, да и многие «простые» люди, понимали, что чума – заразная болезнь. Именно в Венеции с ее множеством островков возникла концепция изоляции жертв эпидемий: слово «изоляция» в буквальном смысле означает вынужденное переселение на острова. Венецианцы вновь сумели выгодно использовать островное положение своего города.
С XV века, когда работы по мелиорации (bonifica) в Лагуне были остановлены, гораздо более широкое поле действий для них открыла Терраферма (Terraferma) – материковые земли Венецианской республики. Здесь также было много болот, и на первом месте стояло осушение. При этом если на местах и преобладали частные инициативы, то основной предпосылкой для них были государственные задачи регуляции рек и строительства каналов. Первый шаг был сделан в 1436 году изданием приказа об осушении провинции Тревизо. В обосновании наряду с экономикой важное место отводилось здравоохранению:
«процент смертности за этот год вновь оказался очень высок вследствие того, что людям и животным приходилось пить воду из мутных и илистых канав».
Лишь в XVI веке с усилением участия государства осушение Террафермы заметно продвинулось. Старания были не напрасны: в конце XVI века Венецианская республика взяла на себя контроль над всеми водами Террафермы, объявив их общественным достоянием (см. примеч. 81).
В 1545 году было учреждено Управление по невозделанным землям (Magistrato dei beni inculti), и работы по осушению Террафермы получили более серьезную государственную поддержку. Новая служба стремилась распространить свой мелиоративный пыл и на Лагуну, из-за чего у нее возник крупный и примечательный конфликт с Водной службой. Пышное красноречие этой дискуссии резко контрастирует с обычным немногословием венецианской политики.
Высокий уровень спора задали личности обоих противников: и Альвизе Корнаро, и Кристофоро Саббадино были не только ведущими гидравликами своего времени, но и крупными учеными, озабоченными будущим Республики. Альвизе Корнаро, известный сегодня прежде всего как автор трактата «Об умеренной жизни» («De vita sobria«, 1558), был классическим воплощением единства трех идей – аграрной, экологической и здорового образа жизни. Он гордился тем, что, покинув город в Лагуне и уединившись в Падуе, не только привел в порядок свои поместья и свое физическое самочувствие, но и обрел душевный покой. Корнаро считал, что то же самое произойдет и с Венецией, если она отвернется от моря и станет на твердую почву. Он опровергал упреки в том, что якобы желал полного исчезновения Лагуны, этого «огромного и замечательного бастиона моего любезного Отечества». Однако часть ее, например, на юге, под Кьоджей, он хотел осушить и превратить в пашню, чтобы венецианцы не страшились бы голода даже в том случае, если враги отрежут им пути для доставки зерна. Свой проект он озаглавил «Самое здравое предвидение» (см. примеч. 82).
Его могучий соперник, Кристофоро Саббадино, был родом из Кьоджи, и, конечно, его задела перспектива превращения его лагунной Родины в обычный город на твердой суше. Он страшился того, что возведение дамб нарушит, выражаясь современным языком, всю экосистему Лагуны. Карту «здоровье» Саббадино побил той же мастью: приток пресной воды и прекращение циркуляции вод приведут к распространению тростника, испарения которого грозят малярией. При этом он развернул перед глазами венецианцев страшные картины опустевших городов. Хотя эта дискуссия была вызвана в первую очередь столкновением экономических интересов и дележом полномочий между разными государственными инстанциями, в ней были представлены и различные менталитеты, и противоположные идеалы. Саббадино использовал даже поэтические образы:
«Реки, море и люди будут тебе врагами»,
– писал он, и только Лагуна останется верной защитой. Современный турист радуется победе Саббадино в этом споре, а один венецианский историк упрекает Корнаро в том, что в Падуе тот утратил «чувство земноводности» (см. примеч. 83), потому что даже если в его планах и было разумное зерно, то все равно Венеция перестала бы быть Венецией. «Природа» цивилизации – это и продукт ее истории.
Венецианская Лагуна
Политическим вопросом первостепенной важности было снабжение лесом. Венеция, не имевшая поблизости обширных лесов, нуждалась не только в дровах, но и в огромных объемах дорогостоящего строевого леса для возведения фундаментов и постройки флота. Старая Венеция стоит на сваях, для фундамента одного только собора Санта-Мария делла Салюте, крупнейшей барочной церкви, потребовалось 1 150 657 свай! Снабжение древесиной было в первую очередь вопросом транспорта, гигантские массы леса доставлялись на большие расстояния только по воде. Так что допускать заиливания рек было нельзя. Это же стимулировало дальновидную лесную политику, ведь сведение близлежащих лесов не только увеличивало дальность доставки дерева, но и усиливало эрозию почвы, а это означало засорение речных русел и Лагуны. Связь между лесным и водным хозяйством венецианцы поняли очень рано, и это послужило одной из причин, почему Венеция стала пионером экологической политики. Уже в 1530 году Совет десяти упоминает связь между вырубками лесов и увеличением массы ила и взвеси в реках как общеизвестный факт, тем более что авторитетная коллегия видела здесь повод расширить свои полномочия, распространив их на лес. Во Дворце дожей ранее других поняли, какие мощные возможности открывает для политической власти управление в сфере экологии (см. примеч. 84).
Как и в других местах, исключительное внимание государства к снабжению лесом объяснялось главным образом потребностями флота. Первое место занимало снабжение Арсенала[126]. Близлежащие леса, в которых росли дубы соответствующего качества, отводились исключительно под его нужды: лес Монтелло использовался для строительства килей кораблей, лес Кансильо – для весел. Тогда государство брало на себя и снабжение дровами; в 1531 году Совет десяти сетовал на дефицит дров и не ограничился регулированием рубок леса, а приказал (крайне необычное для того времени явление) высаживать на Терраферме искусственные леса (см. примеч. 85).
Успешна ли была венецианская лесная политика? Этот вопрос и сегодня вызывает споры. Лесные карты создают впечатление, что по крайней мере в Венето[127], где был возможен эффективный контроль, действительно столетиями сохранялись взятые под защиту леса, хотя, безусловно, их нельзя сравнивать с теми лесными массивами Северной и Западной Европы, которые находились в распоряжении расцветающих морских держав. Еще в XIX веке бывшие венецианские государственные искусственные леса в Альпах были излюбленным объектом экскурсий по лесоводству. Роберт П. Харрисон полагает, что судоходные амбиции Венеции стали «катастрофой» для лесов. Но он, очевидно, не знает, что лес под Монтелло, который он неоднократно приводит как лучший пример прекрасного старовозрастного леса, представляет собой венецианские государственные лесопосадки! (См. примеч. 86.)
Гёте, хорошо информированный об условиях Лагуны, в 1786 году, будучи в Венеции, записал, что город может не тревожиться о своем будущем:
«Море отступает так медленно, что оставляет городу тысячи лет, и они еще успеют понять, как разумно помочь каналам держаться «на плаву»».
И правда, Венеция не знала водных катастроф такого масштаба, какие бывали в Китае, и в гидростроительстве люди могли действовать не спеша, осмотрительно и взвешенно. Гёте был прав, поставив на первое место в решении экологических проблем фактор скорости. Главной опасностью он считал понижение уровня воды. В 1783 году на Лидо, цепочке песчаных островов, отделяющих Лагуну от Адриатики, для защиты от водной стихии были сооружены набережные (murazzi) из крупных валунов. Это был последний великий гидропроект слабеющей Светлейшей Республики. Гёте очень жаловался на недостаточную чистоплотность венецианцев, и позже многие туристы разделяли его мнение. Когда в одной небольшой гостинице он спросил об уборной, ему ответили, что он может справлять свою нужду, где захочет. Чистый город (citta pulitd) превратился в зловонный. Правда ли, что чем сильнее венецианская элита стремилась обрести благополучие на Терраферме, тем меньший интерес она проявляла к состоянию Лагуны? Венецианский историк Ванчан Марчини полагает, что упадок экологического сознания в Венеции совпал с политическим упадком (см. примеч. 87).
«Архитектура воды родилась в Италии, и почти всецело здесь же она была доведена до совершенства»,
– писал итальянский гидравлик в 1768 году. С XVI столетия расширение рисовых полей в долине реки По привело к такому переустройству ландшафта, что местами он стал напоминать китайский. Тем не менее водная мудрость Венецианской лагуны осталась для Италии исключением. Не Италия, а Голландия стала в начале Нового времени ведущей гидростроительной державой. В XVII веке голландские строители каналов трудились от Понтийских болот до Гётеборга, от Вислы до Гаронны (см. примеч. 88).
Гидростроительная карьера жителей побережий Западной Фризии[128] началась уже в Высоком Средневековье, задолго до того, как голландцы стали государствообразующим народом. Уже в XII веке голландских дамбостроителей можно было найти в устьях Эльбы и Везера: из Голландии по всему побережью Северного моря очень рано стали распространяться настроения борьбы с морем. В то время как в Брюгге купцы равнодушно наблюдали за обмелением своих портов и, вместо того чтобы плавать за океан, принимали у себя заграничных клиентов, голландцы с очень давних времен энергично противостояли морю, даже если в борьбе с водной стихией они постоянно переходили к обороне: катастрофическим наводнениям не видно было конца, а потери суши в Средние века значительно превышали ее прирост. Тем не менее позже, во время долгой освободительной борьбы голландцев против Испании, политическая, экономическая и экологическая энергии, кажется, сошлись вместе и вместе достигли кульминации. Голландцы осознавали, что живут в искусственной, сотворенной ими самими среде. Поговорка гласит:
«Бог сотворил мир, голландец создал Голландию» (см. примеч. 89).
Первейшим делом было возведение дамб. Голландцы, как и древние китайцы, придерживались философии, что против водной стихии нельзя выступать фронтально, а нужно ее умиротворять и приручать, выстраивая по ходу течения линейные конструкции. Правда, один гидростроитель писал, что такие потоки, которые вопреки всем усилиям остаются непокорными, следует «удушать» до смерти. Сценарий отношений между человеком и водой в Голландии был проще и грубее, чем в Венеции: бурное Северное море было великим противником, в нем часто видели аналогию с испанцами. Спасением было возведение дамб и сооружение водоотводных каналов. Здесь вряд ли мог сформироваться тот осторожный, взвешенный образ мышления, каким отличались жители Венецианской лагуны. Если в Венеции экологической целью государства был строгий контроль за частным освоением Лагуны, то в Голландии гидростроительные работы стали полем такого беспрепятственного стремления к личной наживе, какого еще не знала история.
Осушение земель в Нидерландах. Земли, осушенные: 1 — в 1200-1600; 2 — в 1600-1900; 3 — в 1900-1970; 4 — земли, которые могут быть осушены к 1980; 5 — дамбы; 6 — горизонталь +1 м. Эту линию условно можно считать границей освоенных земель в том случае, если бы человек не противостоял морю)
Централизованная Государственная водная служба (Rijkswaterstaat) была учреждена только в 1798 году. Водная политика в Голландии не была увязана с лесной: топливом служил торф, а когда Голландия стала богатейшей страной Европы, она смогла массово импортировать древесину из Скандинавии и всего бассейна Рейна. Даже в XVIII веке, когда расцвет Голландии давно остался в прошлом, «голландская» лесоторговля на Рейне с ее гигантскими, до 300 м в длину, плотами, оставалась самым крупным лесным бизнесом Германии. Как и Венеция, Амстердам нуждался в огромных объемах древесины для строительства фундаментов и кораблей, но близлежащие леса для этого не задействовали. Голландия, название которой означает «страна дерева», стала самой безлесной страной Центральной Европы, тем более что в ней не было труднодоступных гор, где мог бы без помех расти лес (см. примеч. 90).
Земля дамб, каналов и шлюзов, Голландия – это и место рождения свободы, политической и духовной: сам Витфогель соглашался, что Нидерланды, как и Венеция, доказывают, что политическая культура страны не является чистой функцией гидростроительства. Йохан Хёйзинга[129] даже считал воду фундаментом социально-демократических структур Нидерландов:
«Такая водная страна, как эта, не может существовать без самоуправления в тесном кругу»
; только объединенная энергия на местах способна поддерживать в исправном состоянии дамбы и каналы. Уход за дамбами по традиции осуществляли те деревни, которые получали от них пользу, при этом, правда, им приходилось трудиться сообща, под контролем государственных служб. Природные условия Западной Фризии легче, чем в соседних немецких регионах, позволяли проводить работы по осушению торфяных болот за счет местных инициатив, без государства, прокладывающего для отвода воды центральный канал. Карл V пытался усилить императорскую власть в Нидерландах «по-китайски», используя «гидравлический» аргумент, но общины возразили на это, что центральная Гидростроительная администрация (созданная в 1544 году) не знает местных условий (см. примеч. 91).
Однако не стоит преувеличивать эффективность голландского водного хозяйства. Один знаток уверял, что мастера дамбового дела в большинстве своем «дебоширы и дуболомы». Поскольку дамбы часто перенаправляли мощь Северного моря на соседние участки берега, а оседание суши вследствие отвода воды с удаленных от моря земель увеличивало опасность наводнений, было бы вполне уместным и более централизованное управление. Знание законов гидравлики в Голландии почиталось и уважалось.
«Кто лучше других разбирается в помпах / того назовут они своим господином и своей земли отцом»,
– гласит английская эпиграмма. Впрочем, на примере Голландии отчетливо видно, каковы пределы гидростроительства, движимого в основном частной корыстью. В сравнении с торговлей сооружение польдеров[130] оставалось бизнесом ненадежным и слабопредсказуемым, в эпоху аграрной депрессии XVII века он оказался на краю гибели. Проект осушения Харлеммермер (Гарлемского моря), который как будто напрашивался и позволил бы получить в центральном регионе Голландии между Амстердамом, Гарлемом и Гаагой 18 тыс. га земли, был реализован только в XIX веке, хотя его планировали с XVII века. Составленный в XVII веке план имел, как замечает Саймон Шама[131], «древнеегипетские», а не голландские масштабы. Это же можно сказать и о появившемся в 1667 году плане осушения Зёйдерзее – озера в 10 раз большей площади. Этот проект, как будто специально придуманный для охваченного мегаломанией «гидравлического» правителя, был частично реализован только в XX веке. Участия игрока государственного уровня, вооруженного современными технологиями, потребовал и план «Дельта», решающий толчок которому дало катастрофическое наводнение 1953 года (речь идет о строительстве сплошной дамбы между островами в общей дельте рек Рейн и Маас, что позволило бы резко сократить протяженность дамб). С ростом современного экологического движения эта кульминация нидерландского гидростроительства перестала вызывать доверие (см. примеч. 92).
Разработка торфяников была сомнительна не только с экологической, но и с экономической точки зрения. Наряду с краткосрочными выгодами она сулила долгосрочное истощение почв. Осушение и добыча торфа запускала порочный круг: когда проседавшая почва доходила до уровня грунтовых вод, «земледелие становилось трудным, и луг заболачивался. Нужно было понижать уровень вод, углубляя водоотводные рвы и каналы». Но тогда процесс «усыхания» начинался заново. Предполагают, что именно таким образом в Средние века и образовались Зёйдерзее и Гарлемское море. Значительная часть гидрологических проблем, с которыми боролись голландцы, была когда-то создана их же руками! (См. примеч. 93.)
Торф был энергетическим фундаментом Золотого века Нидерландов, прибыли от него были очень высоки. Добывали его в полном соответствии с «менталитетом золотоискателя» – по принципу «после нас хоть потоп», что ухудшило ситуацию на долгие годы. Проблему осознали уже в XVI веке, но и запретительная пошлина на экспорт торфа желаемого успеха не принесла. Даже в XV веке много жаловались на то, что осушение маршевых земель способствует высыханию и ветровой эрозии геестов[132] – и без того сухих песчаных берегов. Стремление отвоевать у моря земли под пашни, возможно, объясняется произошедшим ранее экологическим кризисом, вызванным разработкой торфяников (см. примеч. 94).
Эти проблемы нельзя назвать исключительно голландскими. У жителей Блокланда, сырой низины на реке Вюмме под Бременом, сооружение дамб и устройство польдеров по голландскому типу вызывало устойчивое отторжение: они привыкли к «земноводному» образу жизни, с рыбалкой, охотой на уток и пастбищным хозяйством, ценили благотворное действие половодий и ненавидели работы по сооружению дамб, воспринимая их как каторгу (см. примеч. 95).
Около 1800 года крестьянин из провинции Гронинген обнаружил, что можно на какое-то время вернуть почве торфяников питательные вещества, сжигая траву. Успех этой быстро распространившейся практики был весьма сомнительного свойства. Когда на северо-западе Германии стали популярны палы, и дым от них затягивал небо, там сформировались настоящие общества против поджога торфяников, и в 1923 году палы в Германии были полностью запрещены. За шесть-восемь лет палы «насмерть выжигали» торфяную почву. Правда, в конце XIX века сообщалось, что «выжженные палами торфяники Голландии» тем временем «превращены в пышно цветущие ландшафты». Особую роль в этом сыграли «городские удобрения» – сточные воды, смешанные с золой и уличным мусором. Действительно, голландцам и фламандцам нередко приписывали китайские добродетели: в XVIII веке Фландрия и Нидерланды стали образцом для авторов аграрных реформ: здесь удобрением становилось все пригодное, включая человеческие экскременты, шла торговля удобрениями и максимально интенсивно использовали землю (см. примеч. 96). С приходом эры экологии Нидерланды, даже в собственных глазах, приобрели репутацию «самой грязной страны Европы», если не всего мира – страны, которая вследствие антиэкологичного аграрного хозяйства задыхается в навозной жиже (см. примеч. 97). Были даже попытки переоценки истории: Голландия как предостережение, как пример того, что произойдет, если страна, положившись на силу своего капитала, сделает ставку на создание насквозь искусственной окружающей среды.
6. Малярия, ирригация, сведение лесов. Эндемия как Немезида природы и хранительница экологических резервов
Уже тысячи лет люди понимают, что здоровье человека зависит от среды обитания и что определенные условия для него опасны. Это понимание связано прежде всего с малярией – люди знали или подозревали, что эта болезнь восходит к природным условиям конкретных мест. С Античности до наших дней малярия остается самым тяжелым и самым широко распространенным эндемичным заболеванием человека. Задолго до того, как вошла в моду экология, в исследовании малярии сформировалось глубокое понимание связей между медициной, экологией и историей (см. примеч. 98).
С древности малярия ставила человечество перед выбором, похожим на столь знакомую нам сегодня альтернативу «экономика или экология». Чтобы получать высокие урожаи, нужно селиться во влажных местах, орошать и увлажнять почвы. В то же время более здоровой средой обитания для человека являются места с сухим климатом. Малярия заставляла людей селиться и разбивать поля на возвышенностях, хотя в низинах и почвы были лучше, и обрабатывать их было легче. Около 1900 года «науко-оптимист» и социал-демократ Август Бебель радовался светлому будущему, когда люди станут получать пищу с помощью химии, и им не придется более влачить жизнь «на зараженных илистых почвах и болотистых загнивающих равнинах, где сейчас ведется земледелие», а можно будет переселиться в здоровые пустыни! (См. примеч. 99.)
Тем, кто изучает историческую роль малярии, может овладеть чувство, что у него в руках оказался ключ к всемирной истории, в особенности к упадку культур и провалам имперских амбиций. Идет ли речь о походах Александра Македонского или о колониальном империализме XIX столетия: повсюду он встретит исходящую из болот лихорадку, самого страшного врага всех армий, способного внезапно изменить ход истории. Историческое значение малярии нельзя свести к одному знаменателю; нелегко решить, кого она больше ослабила – итальянцев или вторгшихся в Италию северян. Тем не менее Анджело Челли, итальянский ученый, автор классических трудов по малярии, пишет:
«Там, где царит малярия, ее история – это в каком-то смысле история народов».
Некоторые авторы склонны даже кочевой образ жизни в засушливых регионах объяснять ужасом перед малярией (см. примеч. 100).
Выяснить, всегда ли низменные участки Средиземноморья были заражены малярией или она появилась там в какое-то конкретное время, до сих пор не удалось. Цицерон писал, что Ромул выбрал для основания Рима «в зараженной местности здоровое место» (in regione pestilenti salubrem). Около 1900 года, когда Италия и Греция еще тяжело страдали от малярии, ученые уже предполагали, что эта болезнь сыграла огромную роль в античной истории этих стран. Челли полагал, что в расцвете своего могущества Рим мелиоративными мерами сумел остановить надвигающуюся малярию, но полностью ее не победил, в Позднем Средневековье и в XVII веке малярия свирепствовала в его окрестностях сильнее прежнего. Из литературы создается впечатление, что самым страшным «малярийным» временем был для этого региона период с XVII по XIX века. В 1709 году итальянский врач Франческо Торти ввел в обращение ошибочный термин Mal-aria («плохой воздух»). Возможно именно появление этого термина, связанной с ним медицинской политики, применение хинина, а также рост активности искавших заказы гидравликов создают впечатление о росте малярии в Новое время. Для колонизаторов и аграрных деятелей, стремившихся присоединить плодородные равнины к сельскохозяйственным землям, малярия была в то время самым страшным, самым коварным врагом. Вплоть до XX века успехи в борьбе с малярией оставались ничтожными (см. примеч. 101).
Историки, уверенные в могуществе культуры, такие как Тойнби и Бродель, упоминают малярию как следствие упадка культур, заиливания и заболачивания ирригационных сетей. «Малярия наступает, когда ослабевают усилия человека» (Бродель). Однако множество признаков свидетельствует о том, что не упадок оросительных систем, а сами эти системы были главной причиной всемирного роста малярии. Даже при нормальном функционировании они далеко не везде настолько совершенны, чтобы не возникало подпруживания, застоев воды, тем более что водные резервуары обычно очень популярны, а дренажом зачастую пренебрегают. Даже в североамериканский штат Джорджия, условия которого не особенно благоприятны для комаров, в XVIII веке с посадками риса пришла малярия. Джордж Перкинс Марш[133], борец против сведения лесов, полагал, что рисоводство во всем мире настолько вредит здоровью человека, что только сильное демографическое давление может оправдать приносимые жертвы. Даже в современной истории есть примеры, как сооружение новых водохранилищ или оросительных каналов приводит к вспышкам малярии (см. примеч. 102).
Джордж Перкинс Марш. Его книга, переведённая на русский язык в 1864 г., дала толчок отечественной природоохранной традиции, начатой группой учеников К.Ф.рульев — Северцеву, Усову, Богданову и пр.
Еще Челли замечает, что одну из основных причин малярии можно предполагать в сведении лесов. Этот процесс идет нога в ногу с продвижением цивилизации и несет с собой сильнейшую эрозию, заиливание рек и заболачивание равнин. Если это так, то малярия играла роль Немезиды, или, если угодно, самообороны природы, ведь благодаря этой болезни мир сохранил в своих теплых и влажных регионах богатые экологические резервы, недоступные для человека вплоть до XX века. Китайцы смогли продвинуть интенсивное рисоводство в Южный Китай ровно настолько, насколько они могли адаптироваться к малярии. Португальский мореплаватель XVI века описывает болотную лихорадку как меч херувима, преграждавший европейцам путь к тропическим райским садам. Вероятно, малярия была одним из сильнейших сдерживающих факторов истории: она изматывала армии, снижала прирост населения и распространяла вялость и летаргию (см. примеч. 103).
Еще в глубокой древности люди знали, что орошение приносит с собой болотную лихорадку, и там, где прокладывались новые ирригационные системы, население порой выступало против них, несмотря на перспективы более высоких урожаев. Когда в начале XVI века заливное рисоводство было введено в долине реки По, там из страха перед малярией возникло протестное движение, просуществовавшее затем несколько столетий. Сначала правительства налагали запреты на заливное рисоводство, впоследствии такие запреты сохранились только для окрестностей больших городов. Еще Иоганн Петер Франк, гигиенист эпохи просвещенного Абсолютизма, считал «счастливой привилегией Милана», что на мили вокруг этого города было запрещено сажать рис. Он рекомендовал и другим регионам «пожертвовать нездоровым рисоводством в пользу здоровья подданных». И это несмотря на многократное увеличение дохода с полей! В конце XIX века, когда британское колониальное правительство строило масштабные ирригационные системы в Северной Индии, местные жители отчаянно жаловались на распространение малярии, не в последнюю очередь из-за того, что среди мужчин она вызывала импотенцию. Жалобы эти были более чем оправданы. Даже автор, не склонный критиковать каналы, замечает, что в затронутых малярией регионах ее доля в структуре смертности в ходе этого строительства дошла до 90 %! И хотя этиология малярии в то время была уже хорошо изучена, дренажными системами продолжали пренебрегать (см. примеч. 104).
Были ли известны в Античности – без современной бактериологии – главные факты о причинах и профилактике малярии? Гиппократ в своем трактате о воздействии на человека окружающей среды придает огромное значение воде и особенно предостерегает от болотной воды, правда, еще большее внимание он уделяет воздуху и ветрам. Варрон[134] предвосхищает микробиологические открытия:
«Везде, где есть болота, в них развиваются очень мелкие организмы, которые вместе с воздухом через рот и нос попадают незаметно для глаза в тело человека и вызывают тяжелые болезни».
В Древнем Китае также хорошо знали о связи между лихорадкой и стоячими водоемами. Может быть, людям просто нужно было следовать опыту и здоровому инстинкту, чтобы защититься от болотной лихорадки? Есть сведения, что уже в VI веке до н. э. врач и философ Эмпедокл избавил жителей сицилийского города Селинунта от лихорадки, изменив течение двух горных родников и направив их через стоячее болото (см. примеч. 105).
Может быть, избавление от малярии было лишь вопросом воли и энергии? История этой болезни полна примерами людского безразличия к роковым изменениям окружающей среды. Однако и сама проблема, и ее решение далеко не однозначны. Вплоть до XIX века малярию со всеми ее формами не могли точно отделить от других видов лихорадки. Если комаров с Античности подозревали в том, что они переносят малярию, то точных доказательств этому не было; еще исследователь Африки Стэнли пренебрегал москитными сетками. Вместе с тем далеко не везде комары несут людям малярию. И не всегда эта болезнь исходит из болот. Иногда она свирепствует и в других регионах, а болотистые местности, наоборот, могут быть безопасны (см. примеч. 106). Как и сегодня, в экологической политике тот, кто ждал точно гарантированного знания, всегда находил причину для бездействия!
Но и точное знание того, что зло прячется в болотах, помогало не всегда. В ранние времена, до великой эпохи регулирования речных русел и строительства каналов, в ландшафте было слишком много сырых участков, чтобы каждый из них можно было осушить, не говоря о том, что осушение неизбежно порождало правовые проблемы, поскольку могло навредить соседним пашням и лугам. В Новое время выход из этой проблемы, пусть дорогостоящий и далеко не всесильный, обещал хинин.
Важно и то, что там, где однажды воцарялась малярия, она создавала своего рода самовоспроизводящуюся систему: болезнь вызывала апатию и сокращение плотности населения, так что не хватало рабочих рук для сооружения дренажных сетей. Если рабочие прибывали из других регионов, то и их, в свою очередь, выкашивала та же болотная лихорадка. Все это наделяло малярию признаками исторического субъекта. Для местных жителей, вернее, тех из них, которые выживали и приобретали относительный иммунитет против малярии, она была своего рода судьбой и вместе с тем защитой против вторженцев. В отличие от чумы, она не вызывала такого шока, который заставил бы принять серьезные противомеры.
Блестящие контрпримеры этой апатии – Венеция и Амстердам, сохранявшие относительную свободу от малярии благодаря постоянному уходу за каналами и поддержанию циркуляции морской воды. Но здесь профилактика малярии не была изолированной, она сочеталась с потребностями судоходства – наивысшим экономическим интересом. Ситуация здесь резко отличалась от той, какая складывалась в регионах заливного рисоводства, где интересы гигиены и экономики грозили войти в конфликт, даже если подобное противоречие и не было неизбежным. И Голландия, и Венеция обладали сложными гидравлическими системами, и решение «водных» вопросов было для них делом обыденным. Тогда выяснилось, что реализуемость задач экологии и гигиены зависит от того, могут ли эти задачи быть подключены к уже установившимся интересам и принятым схемам поведения. Важную роль играла и благосклонность самой природы: в Амстердаме и Венеции была распространена в основном не тяжелая тропическая малярия (malaria perniciosa), а более легкие ее варианты, да и условия Голландии не слишком подходили для возбудителей малярии. Однако когда в Батавии (Джакарте) голландцы стали прокладывать каналы по амстердамскому образцу, там вспыхнула малярия (см. примеч. 107).
Более мрачную картину являет собой Рим, окрестности которого со Средних веков, а возможно и ранее, опустошала безжалостная malaria perniciosa. Окружавшее Рим малярийное кольцо служило в какой-то мере защитой от иноземных армий, но угрожало и самому городу. Почему Рим, мощная европейская метрополия, не предпринимал энергичных мер против малярии? И сама проблема, и ее возможное решение были вполне осознаны: планы папства по осушению Понтийских болот восходят к Средним векам. В конце XVIII века папа Пий VI, чтобы не отстать от аграрных и гигиенических достижений того времени, все-таки воплотил их в жизнь. Однако мелиорация болот, вопреки всем лаврам, обернулась постыдным фиаско. Очевидно, ни крупные римские землевладельцы, чьи овечьи отары свободно паслись на зараженной равнине, ни скудное население, отчасти жившее за счет рыбных богатств тамошних водоемов, не были серьезно заинтересованы в успехе этого проекта (см. примеч. 108). А здесь требовалась коллективная энергия всех участников, ведь осушение издавна заболоченной и зараженной местности было гораздо более трудным делом, чем поддержание уже существующей лагуны! Успех его стал возможен лишь во время фашистской диктатуры: неплохое подтверждение теории Витфогеля!
До какой степени малярия маркирует вехи экологической истории, особенно очевидно сегодня. После Второй мировой войны препарат ДДТ за короткий срок принес столь убедительную победу над малярией в Италии и Греции, какой хинин не мог добиться за несколько столетий. Но именно широкое использование ДДТ заставило Рейчел Карсон написать тревожный бестселлер «Безмолвная весна» (1962), давший импульс к возникновению американского, а впоследствии и всемирного экологического движения. У истоков современного экологического сознания стоит переистолкование тысячелетних экологических проблем. Потеря страха перед малярией открыла людям новый взгляд на природу
«Да здравствуют безлюдные равнины! Да здравствует депопуляция! Да здравствуют москиты!» (Vive le desert! Vive le depeuplement! Vivent les moustiques!).
Под этими лозунгами защитники природы Лимузена[135] боролись за спасение пойменных долин от Electricite de France[136], когда та, чтобы повысить популярность гидростроительных проектов в регионе, обратилась не только к экономическим, но и к санитарным аргументам (см. примеч. 109). В эпоху малярии подобный лозунг был бы чистейшим цинизмом! А сегодня многих любителей природы болота восхищают еще сильнее, чем леса. Однако провокационное противопоставление интересов природы интересам человека и сейчас нужно оценивать скорее как борьбу мировоззрений. В действительности связь между тревогой за окружающую среду и беспокойством о здоровье сегодня сильнее, чем когда-либо».
Йоахим Радкау. Природа и власть. Источник
Читать по теме:
Карл Август Виттфогель «Деспотизм Востока. Сравнительное исследование тотальной власти»