 «Евгений Онегин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1823—1831 годах, одно из самых значительных произведений русской словесности.
«Евгений Онегин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1823—1831 годах, одно из самых значительных произведений русской словесности.
Пушкин работал над этим романом свыше семи лет. Роман был, по словам поэта, «плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Работу над ним Пушкин называл подвигом — из всего своего творческого наследия только «Бориса Годунова» он характеризовал этим же словом. В произведении на широком фоне картин русской жизни показана драматическая судьба лучших людей дворянской интеллигенции.
Пушкин начал работу над «Онегиным» в мае 1823 года в Кишиневе, во время своей ссылки. Автор отказался от романтизма как ведущего творческого метода и начал писать реалистический роман в стихах, хотя в первых главах ещё заметно влияние романтизма. Изначально предполагалось, что роман в стихах будет состоять из 9 глав, но впоследствии Пушкин переработал его структуру, оставив только 8 глав. Он исключил из основного текста произведения главу «Путешествие Онегина», оставив её в качестве приложения. Из романа также пришлось изъять одну главу полностью: в ней описывается, как Онегин видит военные поселения близ Одесской пристани, а далее идут замечания и суждения, в некоторых местах в излишне резком тоне. Оставлять эту главу было слишком опасно — Пушкина могли арестовать за революционные взгляды, поэтому он её уничтожил[1].
Он охватывает события с 1819 по 1825 год: от заграничных походов русской армии после разгрома Наполеона до восстания декабристов. Это были годы развития русского общества, время правления Александра I. Сюжет романа прост и хорошо известен, в центре него — любовная история. В целом, в романе «Евгений Онегин» отразились события первой четверти XIX века, то есть время создания и время действия романа примерно совпадают.
Александр Сергеевич Пушкин создал роман в стихах подобно поэме лорда Байрона «Дон Жуан». Определив роман как «собранье пёстрых глав», Пушкин выделяет одну из черт этого произведения: роман как бы «разомкнут» во времени (каждая глава могла бы стать последней, но может иметь и продолжение), тем самым обращая внимание читателей на самостоятельность и цельность каждой главы. Роман стал поистине энциклопедией русской жизни 1820-х годов, так как широта охваченных в нём тем, детализация быта, многосюжетность композиции, глубина описания характеров персонажей и сейчас достоверно демонстрируют читателям особенности жизни той эпохи.
Именно это дало основание В. Г. Белинскому в своей статье «Евгений Онегин» сделать вывод:
«„Онегина“ можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».
Из романа, как и из энциклопедии, можно узнать всё об эпохе: о том, как одевались, и что было в моде, что люди ценили больше всего, о чём они разговаривали, какими интересами они жили. В «Евгении Онегине» отразилась вся русская жизнь. Кратко, но довольно ясно, автор показал крепостную деревню, барскую Москву, светский Санкт-Петербург. Пушкин правдиво изобразил ту среду, в которой живут главные герои его романа — Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Автор воспроизвёл атмосферу городских дворянских салонов, в которых прошла молодость Онегина.
Юрий Михайлович Лотман
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту) — советский литературовед, культуролог и семиотик.
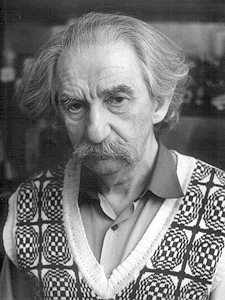 Известное определение Белинского, назвавшего EO «энциклопедией русской жизни», подчеркнуло совершенно особую роль бытовых представлений в структуре пушкинского романа. Конкретизируя этот тезис, Г. А. Гуковский писал:…»уже самое количество бытовых тем и материалов принципиально отличает пушкинский роман от предшествующей литературы. В «Евгении Онегине» перед читателем проходит серия бытовых явлений, нравоописательных деталей, вещей, одежд, цветов, блюд, обычаев». И далее: «Не в том заключено реалистическое новаторство «Евгения Онегина», что в нем описан быт, неоднократно изображенный до него русскими поэтами, которых мы не захотим и не сможем отнести к реалистам, а в том, что бытовой материал истолкован Пушкиным иначе, чем его предшественниками, по-новому, реалистически, то есть в качестве типического, идейно обосновывающего человека и его судьбу» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 140 и 146).
Известное определение Белинского, назвавшего EO «энциклопедией русской жизни», подчеркнуло совершенно особую роль бытовых представлений в структуре пушкинского романа. Конкретизируя этот тезис, Г. А. Гуковский писал:…»уже самое количество бытовых тем и материалов принципиально отличает пушкинский роман от предшествующей литературы. В «Евгении Онегине» перед читателем проходит серия бытовых явлений, нравоописательных деталей, вещей, одежд, цветов, блюд, обычаев». И далее: «Не в том заключено реалистическое новаторство «Евгения Онегина», что в нем описан быт, неоднократно изображенный до него русскими поэтами, которых мы не захотим и не сможем отнести к реалистам, а в том, что бытовой материал истолкован Пушкиным иначе, чем его предшественниками, по-новому, реалистически, то есть в качестве типического, идейно обосновывающего человека и его судьбу» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 140 и 146).
Одной из особенностей бытописания в EO, весьма существенной при комментировании романа, является то, что знание бытовых реалий необходимо для понимания текста даже тогда, когда они непосредственно не упоминаются или лишь мелькают в виде кратких отсылок, намеков на то, что было с полуслова понятно и автору, и современному ему читателю. В этих случаях необходимые пояснения трудно приурочить к какому-либо определенному слову или стиху, не создавая впечатления искусственности. А между тем отказаться от бытовых пояснений без ущерба для читателя нельзя. Это заставляет нас вынести характеристику некоторых черт дворянского быта онегинской эпохи в отдельный очерк, давая в построчном комментарии отсылки на соответствующие страницы. При этом мы, разумеется, не ставим перед собой цели характеризовать быт эпохи как таковой — внимание будет привлекаться лишь к тем его сторонам, которые прямо или косвенно отразились в тексте пушкинского романа. В тех случаях, когда в тексте EO упоминаются конкретные факты быта и рассказ о них не рассредоточен по разным местам романа, а сконцентрирован в определенном месте, пояснения даются в разделе построчного комментария.
Хозяйство и имущественное положение
Русское дворянство было сословием душе- и землевладельцев. Владение поместьями и крепостными крестьянами составляло одновременно сословную привилегию дворян и было мерилом богатства, общественного положения и престижа. Это, в частности, приводило к тому, что стремление увеличивать число душ доминировало над попытками повысить доходность поместья путем рационального землепользования.
Герои EO довольно четко охарактеризованы в отношении их имущественного положения. Отец Онегина «промотался» (I, III, 4), сам герой романа, после получения наследства от дяди, видимо, сделался богатым помещиком. Он
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный…
(I, LIII, 10–11).
Характеристика Ленского начинается с указания, что он «богат» (II, XII, 1). Ларины же не были богаты. В первоначальных набросках Ольга характеризовалась как «Меньшая дочь — соседей бедных» или «Ребенок, дочь соседей бедных» (VI, 287). В дальнейшем эта характеристика была снята, но остались жалобы Прасковьи Лариной на то, что для поездки в Москву «доходу мало» (VII, XXVI, 12). Зато выйдя за князя N, Татьяна сделалась «богата и знатна» (VIII, XLIV, 8). Старшая Ларина, вдова екатерининского бригадира, скорее всего, была помещицей среднего достатка. Что это означало?
По имущественному положению различались мелкопоместные (до 80-100 душ), среднепоместные (число душ которых исчислялось сотнями) и крупнопоместные (около тысячи душ) дворяне. Кроме того, имелась количественно небольшая, но стоящая на вершинах власти и жизни группа помещиков, имущество которых насчитывало десятки или даже сотни тысяч душ. Иерархия душевладения, в значительной мере, определяла общественное положение. Так, Н. Макаров в своих воспоминаниях о начале XIX в. приводит колоритный пример — костромского помещика, властного вельможу П. А. Шилова, державшего в руках всю губернию и прозванного за это «солигалическим императором»: «У него было три формулы обращения с разными лицами. Дворянам, владеющим не менее двухсот душ и более, он протягивал свою руку и говорил сладчайшим голосом: «Как вы поживаете, почтеннейший Мартьян Прокофьевич?» Дворянам с восьмьюдесятью и до двухсот душ он делал только легкий поклон, и говорил голосом сладким, но не сладчайшим: «Здоровы ли вы, мой почтеннейший Иван Иваныч?» Всем остальным, имевшим менее восьмидесяти душ, он только кивал головою и говорил просто голосом приятным: «Здравствуйте, мой любезнейший…» (Макаров Н. Мои семидесятилетние воспоминания…, ч. 1. СПб., 1881, с. 23–24).
Тема богатства оказывается связанной с мотивом разорения. Слова «долги», «залог», «заимодавцы» встречаются уже в первых строках романа.
Долги, проценты по залогам, перезакладывание уже заложенных имений было уделом отнюдь не только бедных или стоящих на грани краха помещиков. Более того, именно мелкие и средние провинциальные помещики, менее нуждающиеся в деньгах на покупку предметов роскоши и дорогостоящих импортных товаров и довольствующиеся «домашним припасом», реже входили в долги и прибегали к разорительным финансовым операциям. Между тем столичное дворянство, начиная с екатерининских времен, поголовно было в долгах. Фонвизин во «Всеобщей придворной грамматике» писал: «Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: быть должным…» Он же спрашивал Екатерину II: «Отчего все в долгах?» — и получил ответ: «Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют» (Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т. Т. II. М.-Л., 1959, с. 51, 272). Жалобы на долги составляют постоянный мотив в многочисленных документах XVIII — начала XIX вв.
Дело было не только в дороговизне предметов роскоши и относительной дешевизне продуктов помещичьего хозяйства: страдали от долгов богатейшие вельможи, получавшие от правительства огромные подарки землями, деньгами и крепостными душами. Так, канцлер граф М. Воронцов получал огромные подарки от правительства. В 1763 г. Екатерина выплатила за фиктивно купленный у него дом — дом остался за графом — 217000 рублей, ему было «уступлено» 190000 гульденов долгу Голландской республики России, при увольнении от должности он получил 50000 рублей и пожизненной пенсии — 7000 рублей в год. Однако, по выражению исследователя, он из-за долгов бился «всю жизнь как рыба об лед» (Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1874, с. 263). Огромные долги обнаружились после смерти Потемкина, хотя состояние его было неисчислимо. По данным английского посланника Гарриса, Потемкин лишь за два года получил 37 тыс. душ и 9 млн. рублей, а француз Кастера считал, что он получил подарков на 50 млн. рублей, не считая беззастенчивых краж и злоупотреблений (см.: «Русский исторический журнал», 1918, кн. 5, с. 240).
Одной из причин всеобщей задолженности было сложившееся в царствование Екатерины II представление о том, что «истинно дворянское» поведение заключается не просто в больших тратах, а в тратах не по средствам. Стремление нового поколения 1830-х гг. «с расходом свесть приход» (III, 1, 219) даже П воспринимал с известной грустью как утрату поэзии дворянского века. В записках И. Ф. Тимковского зафиксирован разговор богатейших русских магнатов: графа Ф. В. Растопчина, вице-канцлера князя П. А. Голицына и графа H. H. Головина: «Произошел большой разговор <…> о балансе доходов и расходов, судимых категорически, от мала до велика. Жить, говорили, по доходам невозможно Подражание и уравнение гонят вперед. Вы увидите подле себя человека с маленьким состоянием, в таком же сукне, какое на вас. Не все же имеют доходы, сколько им надобно. Не всякий подымает их по расходам <показательно в психологическом отношении, что не расходы подгоняются к доходам, а доходы стремятся подверстать под расходы! — Ю. Л.>. Мне кажется, однако, сказал другой, воля как воля; все то делает своя невоздержимая охота. — Поэтому граф Александр Сергеевич Строганов только счастливец, когда государыня, представляя императору Иосифу своих вельмож, могла сказать об нем: «Это у меня магнат, который старается весь век разориться, но не может». — Да, сказал еще другой, хорошо ему, получая миллион доходу (тогда курсом на серебро),[7] a я получаю всего 100 тысяч, чем мне жить!» («Русский архив», 1874, кн. I, стб. 1463). Ср. в «Русском Пеламе» П: «Отец имел 5000 душ. Следственно был из тех дворян, которых покойный гр. Ш.<ереметьев> называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! — Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Ш.<ереметьева>, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр, и роговую музыку» (VIII, I, 416).
Повышение доходности хозяйства путем увеличения его производительности противоречило как природе крепостного труда, так и психологии дворянина-помещика, который предпочитал идти по более легкому пути роста крестьянских повинностей и оброков. Давая единовременный эффект повышения дохода, эта мера в конечном итоге разоряла крестьян и самого помещика, хотя умение выжимать из крестьян деньги считалось среди средних и мелких помещиков основой хозяйственного искусства. В EO упомянут
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков
(V, XXVI, 3–4).
Рационализация хозяйства не вязалась с природой крепостного труда и чаще всего оставалась барской причудой. Так, Растопчин выписал из Англии специалиста-фермера, применял удобрения и завел вслед за известным англоманом Д. М. Полторацким вместо сохи английский плуг. Однако тот же Растопчин в 1806 г. выпустил в Москве брошюру «Плуг и соха», в которой отстаивал отечественную соху перед иностранным плугом. Брошюра имела два эпиграфа. Первый: «Отцы наши не глупее нас были» — и второй — в стихах, который кончался так:
Служил в войне, делах, теперь служу с сохой.
Я пользы общества всегда был верный друг,
Хочу уверить в том и восстаю на плуг.
(См.: Булич H. H. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Изд. 2-е. СПб., 1912, с. 184–185).
Более верными способами «подымать доходы по расходам» были различные формы пожалований от правительства. Они бывали особенно значительны в XVIII в. М. Воронцов писал Елизавете: «Мы все верные ваши рабы без милости и награждения вашего императорского величества прожить не можем. И я не единого дома фамилии в государстве не знаю, который бы собственно без награждения монаршеских щедрот себя содержал» (Карнович Е. П. Цит. соч., с. 259). Огромные пожалования производились при Екатерине II и Павле I, однако Александр I был скуп на денежные и земельные награды.
Причиной образования долгов было не только стремление «жить по-дворянски», т. е. не по средствам, но и потребность иметь в своем распоряжении свободные деньги. Крепостное хозяйство — в значительной мере барщинное — давало доходы в виде продуктов крестьянского труда («простой продукт» I, VII, 12), а столичная жизнь требовала денег. Сбывать сельскохозяйственные продукты и получать за них деньги было для обычного помещика, особенно богатого столичного жителя, ведущего барский образ жизни, непривычно и хлопотно.
Долги могли образоваться от частных займов и заклада поместий в банк (ср.: «…освободился От частных и других долгов» — VIII, X, 9-10). Первые образовывались при одалживании денег (многие дворяне не стеснялись ссужать деньги под проценты; Растопчин в письмах упоминал «нежных друзей», дававших ему деньги взаймы из 12 % годовых), вторые — от закладывания имений. Одалживая же под залог крепостных душ и земельной собственности большую сумму, помещик сразу соблазнительно просто получал в свои руки нужное ему количество денег. Именно по этому, привычному, но ведущему к разорению пути и шел отец Евгения. В 1754 г. был учрежден Дворянский банк, который в 1786 г. был по указу Екатерины II переименован в Государственный заемный банк для дворян и городов. В указе говорилось: «От дворян принимать под залог деревни, полагая 40 р. за душу <…> Дворяне закладывают имения на 20 лет по 5 процентов, а 3 процента идет на уплату капитала, итого 8 процентов» (Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб., 1876, с. 565–566). Жить на средства, полученные при закладе имения, называлось «жить долгами». Такой способ был прямым путем к разорению. Предполагалось, что дворянин на полученные при закладе деньги приобретет новые поместья или улучшит состояние старых и, повысив таким образом свой доход, получит средства на уплату процентов и выкуп поместья из заклада. Однако в большинстве случаев дворяне проживали полученные в банке суммы, тратя их на покупку или строительство домов в столице, туалеты, балы («давал три бала ежегодно» — I, III, 3 — для не слишком богатого дворянина, не имеющего в доме дочерей-невест, три бала в год — неоправданная роскошь). Это приводило к перезакладыванию уже заложенных имений, что влекло за собой удвоение процентов, которые начинали поглощать значительную часть ежегодных доходов от деревень. Приходилось делать долги, вырубать леса, продавать еще не заложенные деревни и т. д.
Не удивительно, что, когда отец Онегина, который вел хозяйство именно таким образом, скончался, выяснилось, что наследство обременено большими долгами:
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк
(I, LI, 6–7).
В этом случае наследник мог принять наследство и вместе с ним взять на себя долги отца или отказаться от него, предоставив кредиторам самим улаживать счеты между собой. Первое решение диктовалось чувством чести, желанием не запятнать доброе имя отца или сохранить родовое имение (последнее обстоятельство играло значительную роль: не случайно закон предусматривал льготы по выкупу родовых имуществ, такой выкуп входил в круг дворянских прав; следуя этой традиции, например, опека выкупила проданное за долги в 1837 г. Михайловское и возвратила его во владение детей уже погибшего к этому времени поэта). Именно так поступил после смерти отца Николай Ростов, движимый чувствами родовой чести. Легкомысленный же Онегин пошел по второму пути.
Получение наследства было не последним средством поправить расстроенные дела. Молодым людям охотно верили в долг рестораторы, портные, владельцы магазинов в расчете на их «грядущие доходы» (V, 6). Поэтому молодой человек из богатой семьи мог без больших денег вести в Петербурге безбедное существование при наличии надежд на наследство и известной беззастенчивости. Так, Лев Сергеевич, брат поэта, жил в Петербурге без копейки денег, но задолжал в рестораны 260 руб., нанимал в долг квартиру в доме Энгельгардта за 1330 руб. в год, делал подарки, вел карточную игру (долги оплатил позже А. С. Пушкин). Молодость — время надежд на наследство — была как бы узаконенным периодом долгов, от которых во вторую половину жизни следовало освобождаться, став «наследником… своих родных» (I, II, 4) или выгодно женившись. Рисуя рутинную смену возрастных норм поведения, П писал:
Блажен <…>
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов
(VIII, X, 1-10).
Образование и служба дворян
В записке «О народном воспитании», составленной в 1826 г., П писал: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем» (XI, 44).
Характерной фигурой домашнего воспитания был француз-гувернер. В наброске «Русский Пелам» П дал картину такого образования: «Отец конечно меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек не глупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда только догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверхь того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке» (VIII, I, 416).
Русский язык, словесность и историю, а также танцы, верховую езду и фехтование преподавали специальные учителя, которых приглашали «по билетам» (Ср.: «Берем же побродяг, и в дом и по билетам» — «Горе от ума», 1, 4). Учитель сменял гувернера. Так, для происходившего из дворянской семьи среднего достатка Ф. Я. Мирковича, когда ему исполнилось 5 лет, родители взяли француза-гувернера Бальзо. «Бальзо смотрел попечительно и старательно за мною и братом, учил нас французскому языку, который тогда я знал тверже родного». Однако, когда Мирковичу исполнилось 13 лет, ему взяли профессионального учителя: «Будри был родом швейцарец, выписанный в царствование Екатерины князем Салтыковым для воспитания его сына. Окончив оное, Будри женился на русской и остался в России. Он был родной брат кровожадного Марата…» (Миркович. с. 9 и 14). Этот де Будри позднее был преподавателем у П в Лицее.
Француз-гувернер и француз-учитель редко серьезно относились к своим педагогическим обязанностям. Такие люди, как Жильбер Ромм (известный математик, якобинец, воспитатель П. А. Строганова), де Будри, лингвист Модрю (несмотря на резкую и справедливую критику его русской грамматики Карамзиным), были редкостью. Не только русская сатирическая литература, но и свидетельства самих французов, посещавших Россию в конце XVIII — начале XIX вв., изобилуют анекдотическими сообщениями. Тут рассказы и о французе, который преподавал французскую грамматику, но, будучи подвергнут сам профессиональному экзамену, на вопрос о наклонениях (по-французски «mode») французских глаголов, отвечал, что давно покинул Париж, а моды там постоянно меняются, и о том, как французский посол в 1770 г. узнал в Петербурге в одном учителе своего бывшего кучера, а начальник кадетского корпуса Ангальт — бывшего барабанщика своего полка, которого он лично приговорил к телесному наказанию.
Если в XVIII в. (до французской революции 1789 г.) претендентами на учительские места в России были, главным образом, мелкие жулики и авантюристы, актеры, парикмахеры, беглые солдаты и просто люди неопределенных занятий, то после революции за границами Франции оказались тысячи аристократов-эмигрантов и в России возник новый тип учителя-француза. Характерный его портрет рисует в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель: «…наш гувернер, шевалье де-Ролен-де-Бельвиль, французский подполковник, человек лет сорока. Не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться, старым и молодым, господам и даже слугам. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило <…> Об отечестве своем говорил как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в ее жителях избранный народ, над всеми другими поставленный. Революционеры, новые титаны, по словам его, только временно овладели сим Олимпом, но подобно им, будут низвергнуты в бездну. При слове религия он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе однако же ничего против нее говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя <…> Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты <…> Он был высок и сухощав, имел самые маленькие серые сверкающие глаза и огромный нос, который, описывая правильную дугу, составлял четверть круга. Он был чрезвычайно опрятен и никогда не покидал крестика святого Лазаря, который доставляли не заслуги, а доказательства старинного дворянства» (Вигель, т. I, с. 81–82). Если прибавить, что именно этот шевалье развил в Вигеле противоестественные наклонности, картина получится достаточно выразительная. Известен случай, когда появившийся в России беглый каторжник-француз, демонстрируя бурбонский герб на своем плече (уголовным преступникам в дореволюционной Франции палач выжигал на плече клеймо королевскую лилию), уверял русских помещиков, что этим знаком отметили себя принцы крови, чтобы узнавать друг друга в эмиграции. Мнимому принцу воздавались доверчивыми провинциалами королевские почести, и он чуть было не женился на дочери своего гостеприимного хозяина (Leonce Pingaud, Les francais en Russie et les russes en France. Paris, 1886, p. 89).
Альтернативой домашнему воспитанию, дорогому и малоудовлетворительному, были частные пансионы и государственные училища. Частные пансионы, как и уроки домашних учителей, не имели ни общей программы, ни каких-либо единых требований. На одном полюсе здесь стояли дорогостоящие и привилегированные столичные пансионы, открытые для доступа лишь детям из аристократического круга. Таков был, например, известный пансион аббата Николя. Вигель вспоминал: «Тайный иезуит, аббат Николь, завел в Петербурге аристократический пансион. Он объявил, что сыновья вельмож одни только в нем будут воспитываться; и сколько с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, столько из видов корысти положил неимоверную плату, ежегодно по 1500 рублей, нынешних шесть тысяч» (Вигель, т. I, с. 91–92). В этом учебном заведении воспитывались будущие декабристы М. Орлов и С. Волконский, дети из аристократических фамилий: Голицыны, Нарышкины, Меншиковы, сюда же были отданы Александр и Константин Бенкендорфы, сыновья подруги императрицы Марии Федоровны, лезшие из кожи, чтобы попасть в аристократию Из пансиона Николя вышли не только будущие декабристы, но и будущий шеф корпуса жандармов. Наряду с эффектно составленной учебной программой, иезуиты умело занимались пропагандой католицизма — многие из воспитанников в будущем сделались католиками. Николь, который, «воспитывая русскую молодежь, верил, что трудится также для Франции» (Leonce Pingaud, op. cit., p. 234), сумел привлечь на свою сторону и русскую аристократию, находившуюся в значительной мере под влиянием эмигрантов — сторонников «старого режима» (таких, как графиня Головина), и молодых либералов из ближайшего окружения Александра I, и таких завзятых врагов галломании, как Растопчин, писавший ему: «Когда речь идет о гербах или качестве вина, я охотно советуюсь с г.*** и г.***. Но, когда дело касается воспитания, я обращаюсь к Вам, г. аббат. Надеюсь, что этим я доказал Вам, насколько я люблю мое дитя» (Leonce Pingaud, op. cit., p. 235). П многое знал о пансионе Николя. И не только по разговорам современников — его самого в 1811 г. собирались поместить в «Иезуитский коллегиум в Петербурге». В <Программе автобиографии> П записал: «Меня везут в П.<етер>Б.<ург> Езуиты. Тургенев. Лицей» (XII, 308).
На другом полюсе находились плохо организованные провинциальные пансионы. Представление о них дают воспоминания В. Н. Карпова о харьковских пансионах начала XIX в.: «Пансион Якимова шел в параллель с пансионом для девиц. В этом пансионе учились тихонько, не спеша, а между тем с успехом переходили из класса в класс на радость родителям и на пользу отечеству. Но этот пансион недолго существовал и был закрыт вследствие происшедшей в Основянском бору дуэли надзирателя Фейерзена с учителем географии Филаткиным за красавицу жену Якимова <…> Пансион «Немца» более других требует, чтобы на нем остановиться. О «Немце» ходили тогда легенды, будто он был привезен стариком Кузиным в Россию в качестве камердинера. По ходатайству Кузина он был записан на русскую службу и, получивши первый чин, получил право на открытие пансиона <…> Это был человек высокого роста, худой, с желтым лицом, раздражительный, суровый на вид, с седыми, нависшими на глаза бровями и с весьма плохим мнением о русских детях. Он их открыто называл наглецами и бездарными животными. «Die russischen Kinder das ist etwas unmogliches, darum sie sind alle dummkopfig!» («русские дети — это нечто невозможное, все они тупоголовые») — был его постоянный и обыкновенный отзыв о всех русских детях. И вот этому лицу и было вручено воспитание русского юношества. Бедное русское юношество!» (Карпов В. Н. Воспоминания; Шипов Ник. История моей жизни. М.-Л., 1933, с. 148–149).
В значительно большем порядке находились государственные учебные заведения.
Большинство русских дворян по традиции готовили своих детей к военному поприщу. По указу 21 марта 1805 г. в обеих столицах и ряде провинциальных городов (Смоленске, Киеве, Воронеже и др.) были открыты начальные военные училища в количестве «15 рот». В них зачислялись дети «от 7 до 9-летнего возраста, которые, пробыв в училище 7 лет, переводятся для довершения воспитания в высшие кадетские корпуса. Для окончания военного воспитания благородное юношество поступает в два высшие кадетские корпуса в Петербурге» (Яблочков М., цит. соч., с. 603). Кроме двух — Первого и Второго — петербургских кадетских корпусов, среднее военное образование молодые люди могли получить в пажеском корпусе, в т. н. «Дворянском полку» (в будущем Константиновское военное училище), в морском кадетском корпусе или в школе колонновожатых — учебном заведении для подготовки квалифицированных штабных офицеров. Показательно, что из 456 лиц, внесенных в «Алфавит декабристов» — список лиц, которые привлекались к следствию по делу декабристов, составленный для Николая I по инициативе Бенкендорфа, — 125 окончили военные заведения: 30 чел. — морской корпус, 28 — пажеский (среди них — Пестель), 24 — школу колонновожатых (среди них — Н. Басаргин, Артамон Муравьев, Н. Крюков, П. Муханов и др.). Рылеев закончил Первый кадетский корпус.
Для получения первого офицерского чина не обязательно было иметь военное образование: военные науки преподавались в ряде гражданских учебных заведений, а некоторые из дворян брали домашние уроки или слушали частные лекции по военным предметам. Студент из дворян по указу 3 ноября 1806 г. лишь три месяца служил рядовым и три месяца подпрапорщиком, после чего получал офицерский чин. Правда, в одном из самых первых своих указов (8 апреля 1801 г.!) Александр I повелел «неграмотных <дворян. — Ю. Л.> принимать рядовыми».
Военное поприще представлялось настолько естественным для дворянина, что отсутствие этой черты в биографии должно было иметь какое-либо специальное объяснение: болезнь или физический недостаток, скупость родителей, не дававшую определить сына в гвардию (в соединении с фамильным чванством, отвергавшим слишком «низкую» карьеру армейского офицера), фамильные связи в дипломатическом мире. Большинство штатских чиновников или неслужащих дворян имели в своей биографии хотя бы краткий период, когда они носили военный мундир. Достаточно просмотреть список знакомых П, чтобы убедиться, что он был и в Петербурге после Лицея, и в Кишиневе, и в Одессе окружен военными — среди его знакомых лишь единицы никогда не носили мундира.
На таком фоне биография Онегина приобретала демонстративный оттенок, ускользающий от внимания современного читателя. Показательно, что в образе хронологически и типологически близкого к Онегину Чацкого угадывалось недавнее военное прошлое («Не в прошлом ли году, в конце, В полку тебя я знал?» — III, 6). Письмо П А. А. Бестужеву, в котором о Молчалине сказано: «Штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень забавен», — показывает, что понятие «штатский» соединялось для автора EO с Молчалиным, но не с Чацким (см. XIII, 138).
Характер образования был, как правило, связан с тем родом службы, для которой родители предназначали своего сына. Штатская служба в престижном отношении стояла значительно ниже военной. Однако в ее пределах имелись существенные отличия с точки зрения ценности в глазах современников. К наиболее «благородным» относили дипломатическую службу. Гоголь в «Невском проспекте» иронически писал, что чиновники иностранной коллегии «отличаются благородством своих занятий и привычек», и восклицал: «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу!»
Штатскими высшими учебными заведениями были университеты. В начале XIX в. их было в России пять: Московский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский. При университетах имелись подготовительные училища — пансионы. Наиболее известным был пансион при Московском университете, в котором учились братья Тургеневы, Жуковский, Грибоедов и многие другие знакомые П. Благородные пансионы (пансионы для дворянских детей) имелись и при других учебных заведениях высшего типа: при Царскосельском лицее, Главном педагогическом институте в Петербурге.
При вступлении в службу такие же права, как и университеты, давали лицеи: Демидовский в Ярославле (кандидаты — так именовались окончившие лицей с отличием — вступали в службу чиновниками 12-го класса, а остальные студенты — 14-го), Царскосельский (окончившие вступали в службу с чинами «от 14-го класса до 9-го», «смотря по успехам»), а позже — Нежинский и Ришельевский (в Одессе). По указу 1817 г. ученики Петербургской гимназии получили право вступать в службу в чине 14-го класса.
Герой пушкинского романа получил только домашнее образование. Следует подчеркнуть, что отношение П к такому воспитанию было резко отрицательным. В записке для Николая I в 1826 г. поэт писал категорически: «Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное» (XI, 44).
Онегин, как уже было сказано, никогда не носил военного мундира, что выделяло его из числа сверстников, встретивших 1812 г. в возрасте 16–17 лет. Но то, что он вообще никогда нигде не служил, не имел никакого, даже самого низшего чина, решительно делало Онегина белой вороной в кругу современников.[8]
Манифестом Петра III от 18 февраля 1762 г. дворянство было освобождено от обязательной службы. Правительство Екатерины II пыталось указом от 11 февраля 1763 г. приостановить действие манифеста и сделать службу вновь обязательной. Указ 1774 года подтвердил обязательность военной службы для дворянских недорослей. Однако Жалованная дворянству грамота 1785 г. вновь вернула дворянам «вольность» служить и оставлять службу — как гражданскую, так и военную — по своему произволу.
Таким образом, неслужащий дворянин формально не нарушал законов империи. Однако его положение в обществе было совершенно особым. Сатирическая литература и публицистика XVIII в. создали традицию отождествления государственной службы и общественного служения. Появилась условная маска неслужащего петиметра, тунеядца и эгоиста. Еще Посошков иронизировал по поводу дворян, которые «в службу написаны и ни на какой службе не бывали», «домо соседям своим страшен яко лев, а на службе хуже козы» (Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951, с. 98 и 94–95).
Правительство также весьма отрицательно смотрело на уклоняющегося от службы и не имеющего никакого чина дворянина. И в столице, и на почтовом тракте он должен был пропускать вперед лиц, отмеченных чинами. Если он вынужден был все же вступить в службу, то рассчитывать на хорошее место ему не приходилось. Так, например, М. С. Воронцов с явным пренебрежением приказывал 1 июня 1822 г. «нигде не служившего дворянина Вас<илия> Туманского» определить в канцелярию без жалования (Пушкин. Статьи и материалы, вып. III. Одесса, 1927, с. 90), хотя Туманский закончил училище в Петербурге и College de France в Париже и был заметным литератором. Екатерина II, прочитав в показаниях арестованного Новикова, что, прослужив всего шесть лет, он вышел в отставку 24 лет от роду поручиком, раздраженно писала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек <…>, следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству» (Новиков Н. И. Избр. соч. М.-Л., 1951, с. 606).
Наконец, служба органически входила в дворянское понятие чести, становясь ценностью этического порядка и связываясь с патриотизмом. Представление о службе как высоком служении общественному благу и противопоставление ее прислуживанию «лицам» (это чаще всего выражалось в противопоставлении патриотической службы отечеству на полях сражений прислуживанию «сильным» в залах дворца) создавало переход от дворянского патриотизма к декабристской формуле Чацкого «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (II, 2).
И. И. Пущин, говоря автору EO о своем вступлении в тайное общество словами: «…не я один поступил в это новое служение отечеству» (Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 108), подчеркивал преемственность между «старым», боевым, и «новым», революционным, служением отечеству. Итак, складывалась мощная, но сложная и внутренне противоречивая традиция отрицательного отношения к «неслужащему дворянину».
Однако была и противоположная (хотя и значительно менее сильная) традиция. Еще Новиков противопоставил пафосу государственной службы идею организованных усилий «приватных» людей. В поэзии Державина сталкивались пафос государственного служения и поэзия частного существования. Однако, пожалуй, именно Карамзин сделал впервые отказ от государственной службы предметом поэтизации в стихах, звучавших для своего времени достаточно дерзко:
…в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны
(«Россия, торжествуй, — Сказал я, — без меня!»)…
(Карамзин, с. 170).
То, что традиционно было предметом нападок с самых разных позиций, сатирически обличалось как эгоизм и отсутствие любви к обществу, неожиданно приобретало контуры борьбы за личную независимость, отстаивания права человека самому определять род своих занятий, строить свою жизнь независимо от государственного надзора или рутины протоптанных путей. Право не служить, быть «сам большой» (VI, 201) и оставаться верным «науке первой» чтить самого себя (III, 1, 193) стало заповедью зрелого П. Известно, как упорно заставлял Николай I служить Вяземского в министерстве финансов, Герцена — в провинциальной канцелярии, Полежаева — в солдатах, и к каким трагическим последствиям привела самого П придворная служба.
В свете сказанного видно, во-первых, что то, что Онегин никогда не служил, не имел чина, не было неважным и случайным признаком — это важная и заметная современникам черта. Во-вторых, черта эта по-разному просматривалась в свете различных культурных перспектив, бросая на героя то сатирический, то глубоко интимный для автора отсвет.
Не менее бессистемный характер носило образование молодой дворянки. Схема домашнего воспитания была та же, что и при начальном обучении мальчика-дворянина: из рук крепостной нянюшки, заменявшей в этом случае крепостного дядьку, девочка поступала под надзор гувернантки — чаще всего француженки, иногда англичанки. В семьях, где нанять хорошую гувернантку не было средств, а дать девушке образование все же считали необходимым (немало было и дворянок, получивших лишь самое начальное образование от какого-нибудь сельского дьячка и едва умеющих читать и писать), прибегали к помощи пансионов.
Наиболее известными государственными учебными заведениями этого типа были Смольный институт благородных девиц и аналогичный ему Екатерининский институт. Эти привилегированные закрытые учебные заведения имели специфический характер. С одной стороны, состав их в значительной мере пополняли девушки из малообеспеченных дворянских семей, родители которых смогли найти заступников при дворе. С другой — определенной части выпускниц были обеспечены придворные должности фрейлин или выгоды, связанные с личным покровительством императрицы Марии Федоровны. Сделавшись после смерти Екатерины II покровительницей этих учебных заведений, Мария Федоровна внесла в их жизнь мелочную опеку. Она «осматривала с ног до головы, ей показывались руки, зубы, уши» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931, с. 82).
Другую возможность представляли частные пансионы. Именно такое воспитание П дал героине поэмы «Граф Нулин»:
…к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственною частью
Не занималася; затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала
(V, 4).
В мемуарах той поры мы находим интересные описания таких пансионов. В качестве особого предмета там преподавались светские манеры, причем тренировка строилась по всем правилам театральных репетиций: воспитанницы в учебных сценках разучивали типичные ситуации светского поведения.
«Начальница встречала их в большом рекреационном зале и заставляла проделывать различные приемы из светской жизни.
— Ну, милая, — говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, — в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это должны сделать? <…>
Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или с дедушкой» (Карпов В. Н. Ук. соч., с. 142–143).
Таким образом вырабатывался тип двойного поведения — театрализованного в «парадных» ситуациях и «помещичьего» в обыденных, причем первое доминировало до замужества, второе — после.
П колебался в том, какой тип воспитания дать дочерям Прасковьи Лариной. Иронические строки «Графа Нулина» были написаны в сроки, близкие к работе над центральными главами романа, в которых затрагивалась тема образования Татьяны и Ольги. Однако глубокая разница в отношении автора к героиням этих двух произведений исключала возможность одинакового воспитания. Первоначально П думал вообще дать своим героиням чисто отечественное образование:
Ни дура Английской породы
Ни своенравная Мамзель
(В России по уставам [моды] Необходимые досель)
Не баловали Ольги милой
Фадеевна рукою — хилой
Ее качала колыбель
Стлала ей детскую постель
Помилуй мя читать учила
Гуляла с нею, средь ночей
Бову рассказывала ей
(VI, 287–288).
Однако в дальнейшем (одновременно с перенесением сюжетного акцента с Ольги на Татьяну) характер воспитания изменился. Культурный облик Татьяны был приближен к кругозору соседок автора по Михайловскому — тригорских барышень. Хотя П и сделал старшую Ларину тезкой Прасковьи Осиповой, это были, конечно, женщины совершенно различного культурного склада. Дочь Вындомского, сотрудника «Беседующего гражданина», ученика Н. И. Новикова и знакомого А. Н. Радищева, Осипова не только смогла добиться, чтобы ее дочери в Псковской губернии выросли литературно образованными, владеющими французским и английским языками, но и сама, зрелой женщиной, продолжала свое образование. Этим она нарушила твердое убеждение своей среды, что самоцельный интерес к науке достоин лишь разночинца, дворянин же учится до получения первого чина, а дворянка — лишь до замужества (вернее, до начала выездов «в свет»). Нарушение этого правила позволялось лишь в отдельных случаях как чудачество большого вельможи или «академика в чепце».
Показательно, однако: засвидетельствовав, что Татьяна в совершенстве знала французский язык, и, следовательно, заставив нас предполагать наличие в ее жизни гувернантки-француженки, автор предпочел прямо не упомянуть об этом ни разу.
Подчеркивая в поведении Татьяны естественность, простоту, верность себе во всех ситуациях и душевную непосредственность, П не мог включить в воспитание героини упоминание о пансионе.
Интересы и занятия дворянской женщины
На общем фоне быта русского дворянства начала XIX века «мир женщины» выступал как некоторая обособленная сфера, обладавшая чертами известного своеобразия. Образование молодой дворянки было, как правило, более поверхностным и значительно чаще, чем для юношей, домашним. Оно обычно ограничивалось навыком бытового разговора на одном-двух иностранных языках (чаще всего это бывали французский и немецкий, знание английского языка уже свидетельствовало о более чем обычном уровне образования), умением танцевать и держать себя в обществе, элементарными навыками рисования, пения и игры на каком-либо музыкальном инструменте и самыми начатками истории, географии и словесности. Конечно, бывали и исключения. Так, Г. С. Винский в Уфе в первые годы XIX века обучал 15-летнюю дочь С. Н. Левашова: «Скажу, не хвастаясь, что Наталья Сергеевна через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли — переводила без словаря; писала письма со всею исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно» (Винский Г. С. Мое время. СПб., <1914>, с. 139). Значительную часть умственного кругозора дворянской девушки начала XIX в. определяли книги. В этом отношении в последней трети XVIII в. — в значительной мере усилиями Н. И. Новикова и H. M. Карамзина — произошел поистине поразительный сдвиг: если в середине XVIII столетия читающая дворянка — явление редкостное, то поколение Татьяны можно было представить
…барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках
(VIII, V, 12–14).
Еще в 1770-е гг. на чтение книг, в особенности романов, часто смотрели как на занятие опасное и для женщины не совсем приличное. А. Е. Лабзину — уже замужнюю женщину (ей, правда, было неполных 15 лет!), отправляя жить в чужую семью, наставляли: «Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока не просмотрит мать твоя <имеется в виду свекровь. — Ю. Л.>. И когда уж она тебе посоветует, тогда безопасно можешь пользоваться» (Лабзина А. Е. Воспоминания. СПб., 1914, с. 34). В дальнейшем Лабзина провела некоторое время в доме Херасковых, где ее «приучили рано вставать, молиться богу, утро заниматься хорошей книгой, которые мне Давали, а не сама выбирала. К счастью, я еще не имела случая читать романов, да и не слыхала имени сего. Случалось раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уж несколько раз слышала. Наконец спросила у Елизаветы Васильевны <Е. В. Херасковой, жены поэта. — Ю. Л.> о каком она все говорит Романе, а я его у них никогда не вижу» (там же, с. 47–48). В дальнейшем Херасковы, видя «детскую невинность и во всем большое незнание» Лабзиной, отсылали ее из комнаты, когда речь заходила о современной литературе. Существовали, конечно, и противоположные примеры: мать Леона в «Рыцаре нашего времени» Карамзина оставляет герою в наследство библиотеку, «где на двух полках стояли романы» (Карамзин, 1, 764). Молодая дворянка начала XIX в. — уже, как правило, читательница романов. В повести некоего В. 3. (вероятно, В. Ф. Вельяминова-Зернова) «Князь В-ский и княгиня Щ-ва, или Умереть за отечество славно, новейшее происшествие во времена кампании французов с немцами и россианами 1806 года, российское сочинение» описывается провинциальная барышня, живущая в Харьковской губернии (повесть имеет фактическую основу). Во время семейного горя — брат погиб под Аустерлицем — эта прилежная читательница «произведений ума Радклиф, Дюкредюмениля и Жанлис,[9] славных романистов нашего времени» (цит. соч. ч. I, с. 58), предается любимому занятию: «Взяв наскоро «Удольфские таинства», забывает она непосредственно виденные сцены, которые раздирали душу ее сестры и матери <…> За каждым кушаньем читает по одной странице, за каждою ложкою смотрит в разгнутую перед собою книгу. Перебирая таким образом листы, постоянно доходит она до того места, где во всей живости романического воображения представляются мертвецы-привидения; она бросает из рук ножик и, приняв на себя испуганный вид, нелепые строит жесты» (там же, с. 60–61). О распространении чтения романов среди барышень начала XIX в. см. также: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1. СПб., 1909, с. 11–13.
Образование молодой дворянки имело главной целью сделать из девушки привлекательную невесту. Характерны слова Фамусова, откровенно связывающего обучение дочери с будущим ее браком:
Дались нам эти языки!
Берем же побродяг, и в дом, и по билетам,
Чтоб наших дочерей всему учить, всему
И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!
Как будто в жены их готовим скоморохам
(I, 4).
Естественно, что со вступлением в брак обучение прекращалось.
В брак молодые дворянки в начале XIX в. вступали рано. Правда, частые в XVIII в. замужества 14- и 15-летних девочек начали выходить из обычной практики, и нормальным возрастом для брака сделались 17–19 лет.[10] Однако сердечная жизнь, время первых увлечений молодой читательницы романов, начинались значительно раньше. И окружающие мужчины смотрели на молодую дворянку как на женщину уже в том возрасте, в котором последующие поколения увидали бы в ней лишь ребенка. Жуковский влюбился в Машу Протасову, когда ей было 12 лет (ему шел 23-й год). В дневнике, в записи 9 июля 1805 г., он спрашивает сам себя: «…можно ли быть влюбленным в ребенка?» (см.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904, с. 111). Софье в момент действия «Горя от ума» 17 лет, Чацкий отсутствовал три года, следовательно, влюбился в нее, когда ей было 14 лет, а может быть, и ранее, поскольку из текста видно, что до отставки и отъезда за границу он некоторое время служил в армии и определенный период жил в Петербурге («Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, Из Петербурга воротясь, С министрами про вашу связь…» — III, 3). Следовательно, Софье было 12–14 лет, когда для нее и Чацкого наступила пора
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!
(IV, 14).
Наташе Ростовой 13 лет, когда она влюбляется в Бориса Друбецкого и слышит от него, что через четыре года он будет просить ее руки, а до этого времени им не следует целоваться. Она считает по пальцам: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать» («Война и мир», т. I, ч. 1, гл. X). Эпизод, описанный И. Д. Якушкиным (см.: Пушкин в воспоминаниях современников, 1, 363), выглядел в этом контексте вполне обычно. Шестнадцатилетняя девушка — уже невеста, и к ней можно свататься. В этой ситуации определение девушки как «ребенка» отнюдь не отделяет ее от «возраста любви». Слова «ребенок», «дитя» входили в бытовой и поэтический любовный лексикон начала XIX в. Это следует иметь в виду, читая строки вроде: «Кокетка, ветреный ребенок» (V, XLV, 6).
Выйдя замуж, юная мечтательница часто превращалась в домовитую помещицу-крепостницу, как Прасковья Ларина, в столичную светскую даму или провинциальную сплетницу. Вот как выглядели провинциальные дамы в 1812 г., увиденные глазами умной и образованной москвички М. А. Волковой, обстоятельствами военного времени заброшенной в Тамбов: «Все с претензиями, крайне смешными. У них изысканные, но нелепые туалеты, странный разговор, манеры как у кухарок; притом они ужасно жеманятся, и ни у одной нет порядочного лица. Вот каков прекрасный пол в Тамбове!» (Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. Сост. В. В. Каллаш. М., 1912, с. 275). Ср. с описанием общества провинциальных дворянок в EO:
Но ты — губерния Псковская
Теплица юных дней моих
Что может быть, страна глухая
Несносней барышень твоих?
Меж ими нет — замечу кстати
Ни тонкой вежливости знати
Ни [ветрености] милых шлюх
Я уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство
Фамильных шуток остроту
Порою зуб нечистоту
[И непристойность и] жеманство
Но как простить им [модный] бред
И неуклюжий этикет
(VI, 351).
В другом месте автор подчеркнул умственную отсталость провинциальных дам, даже по сравнению с отнюдь не высокими критериями образования и глубокомыслия провинциальных помещиков:
…разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен
(II, XI, 13–14).
И все же в духовном облике женщины были черты, выгодно отличавшие ее от окружающего дворянского мира. Дворянство было служилым сословием, и отношения службы, чинопочитания, должностных обязанностей накладывали глубокую печать на психологию любого мужчины из этой социальной группы. Дворянская женщина начала XIX в. значительно меньше была втянута в систему служебно-государственной иерархии, и это давало ей большую свободу мнений и большую личную независимость. Защищенная к тому же, конечно, лишь до известных пределов, культом уважения к даме, составлявшим существенную часть понятия дворянской чести, она могла в гораздо большей мере, чем мужчина, пренебрегать разницей в чинах, обращаясь к сановникам или даже к императору. Это в соединении с общим ростом национального самосознания в среде дворянства после 1812 г. позволило многим дворянкам возвыситься до подлинного гражданского пафоса. Письма уже упомянутой М. А. Волковой к ее петербургской подруге В. И. Ланской в 1812 г. свидетельствуют, что П, создавая в «Рославлеве» образ Полины — экзальтированно патриотической и мечтающей о героизме девушки, полной гордости и глубокого чувства независимости, смело идущей наперекор всем предрассудкам общества, — мог опираться на реальные жизненные наблюдения. См., например, письмо Волковой от 27 ноября 1812 г.: «…я не могу удержать своего негодования касательно спектаклей и лиц, их посещающих. Что же такое Петербург? Русский ли это город, или иноземный? Как это понимать, ежели вы русские? Как можете вы посещать театр, когда Россия в трауре, горе, развалинах и находилась на шаг от гибели? И на кого смотрите вы? На французов, из которых каждый радуется нашим несчастьям?! Я знаю, что в Москве до 31 августа открыты были театры, но с первых чисел июня, т. е. со времени объявления войны, у подъездов их виднелись две кареты, не более. Дирекция была в отчаянии, она разорялась и ничего не выручала <…> Чем более я думаю, тем более убеждаюсь, что Петербург вправе ненавидеть Москву и не терпеть всего в ней происходящего. Эти два города слишком различны по чувствам, по уму, по преданности общему благу, для того, чтобы сносить друг друга. Когда началась война, многие особы, будучи не хуже ваших красивых дам, начали часто посещать церкви и посвятили себя делам милосердия…» (цит. соч., с. 273–274).
Показательно, что предметом критики становится не всякая форма увеселения, а именно театр. Здесь сказывается традиционное отношение к театральным зрелищам, как времяпровождению, несовместимому с порой покаяния, а година национальных испытаний и несчастий воспринимается как время обращения к своей совести и покаяния.[11]
Последствия петровской реформы не в одинаковой мере распространялись на мир мужского и женского быта, идей и представлений — женская жизнь и в дворянской среде сохранила больше традиционных черт, поскольку более была связана с семьей, заботами о детях, чем с государством и службой. Это влекло за собой то, что жизнь дворянки имела больше точек соприкосновения с народной, чем существование ее отца, мужа или сына. Поэтому глубоко не случайно то, что после 14 декабря 1825 г., когда мыслящая часть дворянской молодежи была разгромлена, а новое поколение интеллигентов-разночинцев еще не появилось на исторической арене, именно женщины-декабристки выступили в роли хранительниц высоких идеалов независимости, верности и чести.
Дворянское жилище и его окружение в городе и поместье
Место действия играет в пушкинском романе большую и совершенно специфическую роль. События все время развиваются в каком-либо конкретном пространстве: в Петербурге, в Москве, в деревне, на почтовом тракте. При этом характер событий оказывается тесно связанным с местом, в котором они развертываются. Более того, в такой же мере, в какой Петербург является «своим» пространством для Онегина, деревня — органичный мир Татьяны, и, как Онегин в деревне остается временным гостем, заезжим посетителем, проникнувшим в чужое пространство, так Татьяна чужая в Москве — в доме тетки и в зале Благородного собрания и в Петербурге в собственном доме. Если в деревенском мире Татьяны герой остался равнодушным к трогательному признанию героини, то в «онегинском» пространстве его собственное объяснение не встретило сочувствия. Конечно, отношение героев к тому типичному для них окружению, которое дано для Онегина в первой главе, а для Татьяны во второй — пятой, не статично. Татьяна в Петербурге тоскует по «бедному жилищу», но Петербург это не только «ветошь маскарада», светский и придворный «омут». Салон Татьяны — оазис высокой культуры, духовного аристократизма, это «пушкинский мир». Простота и естественность поведения людей здесь перекликаются с простотой истинной народности, и это делает переход Татьяны в столичный мир, в одном отношении, безусловно, насильственным, в другом — естественным и органичным.
Одновременно и Онегин в конце романа не так соотносится с петербургским миром, как в начале: из «петербургского» героя он превратился в скитальца, для которого «своего» пространства нет вообще. И в родном для него Петербурге
Для всех он кажется чужим…
(VIII, VII, 7).
Если «свой» мир Татьяны — это мир, к которому героиня принадлежит духовно и куда она хотела бы вернуться, то «свой» мир Онегина — мир, из которого он хочет бежать.
Даже из этого обзора видно, сколь значительное место в романе занимает окружающее героев пространство, которое является одновременно и географически точным, и несет метафорические признаки их культурной, идеологической, этической характеристики. Ясно, какое значение получает понимание всех деталей пространственного мира романа.
И в этом отношении, как и в других, роман П не является описательным. Автор почти нигде не дает детальных картин места действия, не описывает интерьера домов. Твердо зная, что читатель его знаком и с видом, и с внутренним убранством обычного помещичьего дома в деревне, и с интерьером петербургского аристократического особняка на набережной Невы, он делает лишь скупые указания:
…легче тени
Татьяна прыг в другие сени
(III, XXXVIII, 5–6);
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц…
(V, XXV, 9-10);
…для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи
(VI, 1,10–12);
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он
(VIII, XL, 6–8).
По этим указаниям читатель пушкинской эпохи легко восстанавливал картину. Это соответствовало поэтике П. Л. Н. Толстой смотрит на мир, им изображаемый, глазами внешнего, впервые попавшего сюда наблюдателя, превращая тем самым читателя в «естественного человека», который должен объяснить себе смысл и значение каждой детали (отсюда подробность и «отстраненность» описаний). П строит образ читателя как давнего знакомого, «своего» в авторском мире, которому не надо ничего детально описывать достаточно указать или намекнуть. Но именно такое знакомство с внетекстовым миром романа отсутствует у современного нам читателя. А это заставляет комментировать опущенные в EO, но понятные и возникавшие в сознании современников картины.
Весь пространственный мир романа (если исключить «дорогу», о которой речь пойдет отдельно) делится на три сферы: Петербург, Москва, деревня.
Онегинский Петербург имеет весьма определенную географию. То, какие районы столицы упоминаются в тексте, а какие остались за его пределами, раскрывает нам смысловой образ города в романе. Так, в EO не упоминается хорошо известная поэту Коломна, где, по выражению Гоголя, «не столица, и не провинция», «все тишина и отставка» («Портрет») — мир, знакомый П по личным впечатлениям и описанный в «Домике в Коломне», «Медном всаднике». Но не упомянуты и черты пейзажа «военной столицы»: Марсово поле (Царицын луг) с его парадами и «эскадра на реке». Антитеза Зимнего дворца и Петропавловской крепости дана в тексте лишь глубоко зашифрованным намеком, сделать который понятнее автор собирался при помощи картинки — внетекстового ключа к тексту.
Реально в романе представлен лишь Петербург аристократический и щегольской. Это Невский проспект, набережная Невы, Миллионная (ныне ул. Халтурина), видимо, набережная Фонтанки (вряд ли гувернер водил мальчика Евгения в Летний сад издалека), Летний сад, Малая Морская (ныне ул. Гоголя) — «Лондонская гостиница», Театральная площадь.
Онегин в первой главе, видимо живет на Фонтанке. Район этот был прекрасно знаком автору: здесь в доме А. Н. Голицына (ныне № 20) проживали в 1820-е гг. братья Тургеневы, в нынешнем доме № 25, принадлежавшем тогда Катерине Федоровне Муравьевой (матери декабриста Никиты Муравьева — «осторожного Никиты»), жил H. M. Карамзин, здесь бывали многие декабристы, жил К. Н. Батюшков. Нынешний дом № 16 в 1820-е гг. принадлежал князю В. П. Кочубею — блестящему, хотя и ничтожному представителю бюрократии начала XIX в. В доме Кочубея проживала его родственница Н. К. Загряжская, внучатой племянницей которой была H. H. Гончарова и разговоры которой П записывал в 1830-е гг. На Фонтанке же жил отец Пестеля — почт-директор и сибирский генерал-губернатор, отставленный от службы за чудовищные злоупотребления. Это был район аристократических особняков. Такой же была и Миллионная улица, упомянутая в первой главе.
Дом князя N находился на набережной Невы (Онегин, отправившийся «к своей Татьяне» — VIII, XL, 3, «несется вдоль Невы в санях» — VIII, XXXIX, 10). Здесь располагались дворцы и особняки высшей аристократии — Лавалей, Воронцовых-Дашковых и др. Когда граф Андрей Шувалов посватался к смертельно больной Софье Нарышкиной (внебрачной дочери императора Александра I), царь дал ей приданое — дом на набережной и капитал, приносящий дохода 25 тысяч ассигнациями (хотя современники были поражены его скупостью, это все же было «царское» приданое). О. А. Жеребцова (урожденная Зубова, сестра известного фаворита Екатерины II) продала в 1830 г. дом на Английской набережной за 200000 руб. ассигнациями. За три года она два раза меняла местожительство («не любила долго жить в одном доме», — вспоминает ее домашний карлик И. Якубовский; см.: Карлик фаворита. История жизни Ивана Якубовского. Munchen, 1968, S. 158), но неизменно арендовала особняки на Английской набережной.
Доминирующими элементами городского пейзажа в Петербурге, в отличие от Москвы, были не замкнутые в себе, территориально обособленные особняки или городские усадьбы, а улицы и четкие линии общей планировки города. Хотя Петербург был задуман как «европейский» город и именно как таковой противопоставлялся Москве, внешний вид его не напоминал облика европейских городов XVIII — начала XIX вв. В отличие от крупных исторических городов Европы, Петербург никогда не был окружен стенами, ограничивающими площадь застройки. Поэтому ограничений на размеры фасада и ширину улиц, определявших облик всех европейских средневековых городов, в Петербурге не было. Почти одновременная застройка всего города (по сравнению с хронологией роста других европейских столиц) придавала ему характер упорядоченности, стройности и однообразия.
Жизнь в собственном доме была доступна в Петербурге (в тех его районах, которые упоминаются в EO) лишь очень богатым людям. Тип внутренней планировки такого дома приближался к дворцовому. Большинство тех людей, которые в Москве выстроили бы или наняли целый особняк, в ПетербургеЕсли «свой» мир Татьяны — это мир, к которому героиня принадлежит духовно и куда она хотела бы вернуться, то «свой» мир Онегина — мир, из которого он хочет бежать.). довольствовались наемной квартирой. Квартиры эти могли быть роскошными: так, молодой конногвардейский корнет поэт-декабрист А. И. Одоевский занимал квартиру из восьми комнат — целый этаж в доме Булатова на Исаакиевской площади. Зато его двоюродный брат — известный писатель и критик В. Ф. Одоевский — перебравшийся после женитьбы в дом своей тещи Ланской (на углу Мошкова пер. и Миллионной), занял во флигеле скромную и тесную квартиру, которую его друг Плетнев именовал чердаком.
Планировка петербургского дома в начале XIX в., как правило, предполагала вестибюль, куда выходили двери из швейцарской и других служебных помещений. Отсюда лестница вела в бельэтаж, где располагались основные комнаты: передняя, зала, гостиная, из которой, как правило, шли двери в спальню и кабинет. Такова планировка дома графини в «Пиковой даме» (в основу положен реальный план дома княгини Н. П. Голицыной на Малой Морской, ныне ул. Гоголя 10):[12] «…Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю, и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню» (VIII, I, 239). Онегин во время последнего свидания с Татьяной также проходит всю анфиладу помещений вплоть до интимных внутренних покоев (прихожую, залу, гостиную) и, отворив дверь в кабинет или спальню, застает Татьяну:
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше
<т. е. в гостиную. — Ю. Л.>:
никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна…
(VIII, XL, 6-11).
Н. А. Полевой в рецензии на последнюю главу романа писал с излишней определенностью об Онегине «В последний раз читатель видит его в спальне Татьяны, уже княгини» («Московский Телеграф», 1832, № 1, с. 118). Автор поступил тоньше, чем его критик: он, указав, что действие происходит во внутренней, непарадной части дома, не определил комнаты, полностью сняв тот оттенок скандальности, который придал своему пересказу Полевой.
Набор: зала, гостиная, спальня, кабинет — был устойчивым и выдерживался и в деревенском помещичьем доме.
Московский пейзаж строится в романе принципиально иначе, чем петербургский: он рассыпается на картины, здания, предметы. Улицы распадаются на независимые друг от друга дома, будки, колокольни. Длинное и детальное путешествие Лариных через Москву составляет одно из самых пространных описаний в EO (ему посвящены четыре строфы; П увеличил их счет до пяти, прибавив «пустой номер» XXXIX-й строфы и этим создав впечатление, что «утомительная прогулка» (VII, XL, 1) длилась еще дольше). Оно резко отличается от краткой эскизности петербургских зарисовок. «Правильность» петербургского пейзажа подчеркнута тем, что он дается с точки зрения прекрасно знающего его и привыкшего к нему наблюдателя, которому достаточно кратких намеков, чтобы восстановить картину. Москва же показана глазами внешнего наблюдателя:
У Тани в шумной сей прогулке
Все в голове кругом идет…
(VI. 452).
Характерной чертой московского пейзажа было то, что доминирующими ориентирами в городе были не цифровые и линейные координаты улиц и домов, а отдельные, замкнутые мирки: части города, церковные приходы и городские усадьбы с домами-особняками, отнесенными с «красной линии» улицы в глубь сада или парка и окруженными хозяйственными постройками, флигелями и сараями. Каждая такая усадьба составляла особую самодовлеющую структуру в плане города. Правда, после пожара 1812 г. характер городской застройки несколько изменился. В 1813 г. была организована «Комиссия для строений города Москвы», которая внесла известную унификацию в тип московского барского особняка. Но и вынесенные на красную линию улицы фасады домов не изменили основного. Строения стояли не в глубине усадьбы, а вдоль фронта улицы, создавая единую линию, однако, застройка все равно не была непрерывной: каждый дом был отдельной архитектурной, бытовой и владельческой единицей и, как правило, окружен был зеленью (которая в Петербурге не сочеталась с домами, а составляла отдельные массивы в общем ансамбле города).[13]
Административная стройность, тяготение к архитектурным ансамблям Петербурга и уютная пестрота, расчлененность, патриархальная замкнутость московского мира нашли разительное воплощение и в системе адресов. Петербург был городом чисел и координат, Москва — городом собственных имен.
«С конца XVIII века и до 1834 года в Петербурге существовала валовая нумерация домов в пределах каждой полицейской части и квартала. Эта нумерация не всегда была последовательна и в быту почти не употреблялась. С 1834 г. была введена нумерация каждой улицы, четной и нечетной стороны раздельно…» (Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957, с. 135). Однако адрес, как правило, начинался указанием на улицу или полицейскую часть, к которой относится дом. В московских адресах после указания района города следовал, как правило, церковный приход. П точно следовал этому: в обоих случаях, когда в романе фигурирует московский адрес, как отправная точка указана церковь, к приходу которой он относится: «У Харитонья в переулке» (VII, XL, 3), «Живет у Симеона» (VII, XLI, 12).
Автор сознательно провез Татьяну и через окраины, и через центр Москвы: от Петровского замка, стоявшего вне черты города, через Тверскую заставу, по Тверской-Ямской, Триумфальной (ныне Маяковского) площади, Тверской (ныне ул. Горького), мимо Страстного монастыря (на месте которого теперь Пушкинская пл.), далее, вероятно, по Камергерскому переулку (ныне проезд Художественного театра), пересекая Большую Дмитровку (ул. Пушкина), по Кузнецкому мосту («Мелькают <…> магазины моды») и Мясницкой (ныне ул. Кирова) до Харитоньевского переулка.
Магазины мод были сосредоточены на Кузнецком мосту — это были французские лавки «Аме, Арман, Венсен, Моро, Пансмаль, Шальме, Шеню и пр.» (Щукинский сб., вып. 2. М., 1903, с. 5).
Число французских модных лавок на Кузнецком мосту было очень велико, а состав их постоянно менялся. Различные мемуаристы приводят разные списки имен наиболее выдающихся поставщиц мод. Сопоставляя 1820-е гг. с 1850-ми, М. Д. Бутурлин писал: «Не знаю, от чего случилось, что маршанд-де-модный элемент окончательно вытеснен с Кузнецкого моста. В былое время он запружен был мадамами Лебур, Юрсюль, Буасель, Софиею Бабен, Лакомб, Леклер и их менее знаменитыми конкурентками…» (Бутурлин, с. 437).
Значительная часть действия романа сосредоточена в деревенском доме помещика XIX в. Описание типичного помещичьего дома находим в записках М. Д. Бутурлина: «С архитектурною утонченностию нынешних вообще построек, при новых понятиях о домашнем комфорте, исчезли повсюду эти неказистые дедовские помещичьи домики, все почти серо-пепельного цвета, тесовая обшивка и тесовые крыши коих никогда не красились <…> В более замысловатых деревенских постройках приклеивались, так сказать, к этому серому фону четыре колонны с фронтонным треугольником над ними. Колонны эти были у более зажиточных оштукатуренные и вымазанные известью так же, как и их капители; у менее достаточных помещиков колонны были из тощих сосновых бревен без всяких капителей. Входное парадное крыльцо, с огромным выдающимся вперед деревянным навесом и двумя глухими боковыми стенами в виде пространной будки, открытой спереди. Внутреннее устройство было совершенно одинаково везде; оно повторялось без всяких почти изменений в Костромской, Калужской, Орловской, Рязанской и прочих губерниях и было следующее. В будке парадного крыльца была боковая дверь в ретирадное место (всегда, конечно, холодное), и потому вход в дом не всегда отличался благовонием. После передней был длинный зал, составляющий один из углов дома, с частыми окнами в двух стенах и потому светлый как оранжерея. В глухой капитальной стене зала было двое дверей; первая, всегда низкая, вела в темный коридор, в конце коего была девичья и черный выход на двор. Вторая дверь зала, большого размера и в уровень с верхом окон, вела в гостиную; такого же размера дверь вела из гостиной в кабинет или в хозяйскую спальню, составляющую другой угол дома. Эти две комнаты и поперечная часть зала были обращены к цветнику, а за неимением такового к фруктовому саду; фасад же этой части дома состоял из семи огромных окон, два из них были в зале, три в гостиной (среднее впрочем превращалось летом в стеклянную дверь со спуском в сад), а остальные два окна в спальне. Убранство гостиной было также одинаково во всех домах. В двух простенках между окнами висели зеркала, а под ними тумбочки или ломберные столы. В середине противоположной глухой стены стоял неуклюжий, огромный с деревянною спинкою и боками диван (иногда, впрочем, из красного дерева); перед диваном овальный большой стол, а по обеим сторонам дивана симметрически выходили два ряда неуклюжих кресел <…> Вся эта мебель была набита как бы ореховою шелухою и покрыта белым коленкором, как бы чехлами для сбережения под нею материи, хотя под коленкором была нередко одна толстейшая пеньковая суровая ткань. Мягкой мебели и в помине тогда не было; но в кабинете или спальне нередко стояла полумягкая клеенчатая зеленая софа, и там же в углу этажерка с лучшим хозяйским чайным сервизом, затейливыми дедушкиными бокалами, фарфоровыми куколками и с подобными безделюшками. Обои были тогда еще редко в ходу; у более зажиточных стены были окрашены желтою вохрою…» (Бутурлин, с. 403–405).
Такова «сцена», на которой развертывалось действие второй — седьмой глав романа. Так, в строфе XVII седьмой главы мы находим Татьяну сначала в зале онегинского дома, где ей бросаются в глаза «кий на бильярде» и манежный хлыстик на канапе. Сообщение: «Таня дале» — указывает, что героиня перешла в гостиную, где продолжаются объяснения Анисьи:
…А вот камин;
Здесь барин сиживал один.XVIII
Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
В связи с упоминанием камина уместно сослаться на того же Бутурлина, вспоминавшего: «Оба внутренние угла гостиной были перерезаны наискосок двумя печьми (не всегда изразцовыми, а часто кирпичными); они отапливали задними своими зеркалами зал и спальню» (Бутурлин, с. 404). В доме Онегина одна из этих печей была переделана в камин.
Далее Анисья проводит Татьяну в «барский кабинет».
Сходная планировка, видимо, и в доме Лариных. Действие XXXVII строфы третьей главы происходит в гостиной:
Смеркалось; на столе блистая
Шипел вечерний самовар…
«Заветный вензель О да Е» (III, XXXVII, 14) Татьяна писала на окне фасадной стены, выходившем в сторону парадного крыльца. Через это окно она и увидела подъезжающего Евгения. Она бросилась через дверь, ведущую в коридор, и черный ход в сад.
Фасадная часть дома, заключающая залу и парадные комнаты, была одноэтажной. Однако комнаты, находившиеся по ту сторону коридора: девичья и другие помещения — были значительно ниже. Это позволяло делать вторую половину здания двухэтажной.
В помещичьих домах, претендовавших на большую роскошь, чем «серенькие домики», охарактеризованные Бутурлиным, и приближавшихся по типу к московским особнякам, передние высокие комнаты были парадными. Жилые помещения, расположенные по другую сторону коридора и на втором этаже, имели низкие потолки и обставлялись гораздо проще. Онегин поселился не в «высоких покоях» (II, II, 5), а там, где его дядя «лет сорок с ключницей бранился», где «все было просто» (II, III, 3, 5) — в задних жилых покоях.
На втором этаже часто располагались детские. Там и жили барышни Ларины. В комнате Татьяны был балкон:
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход…
(II, XXVIII, 1–2).
Балкон был для П характерной приметой помещичьего дома (см. III, I, 403).
Барский дом виден издалека, из окон и с балкона его также открывались далекие виды. Дома провинциальных помещиков ставили крепостные архитекторы и безымянные артели плотников. Они глубоко усвоили одну из главных особенностей древнерусской архитектуры — умение поставить строение так, чтобы оно гармонично вписалось в пейзаж. Это делало такие постройки, наряду с церковными строениями и колокольнями, организующими точками того русского пейзажа, к которому привыкли П и Гоголь в своих дорожных странствиях. Дом ставился обычно не на ровном месте, но и не на вершине холма, открытой ветрам. Его строили, как правило, на склоне, так, что с одной стороны он казался стоящим на ровном месте (отсюда бывал обычно подъезд, и к дому вела липовая аллея), а с другой — открывался вид на скат холма, спуск к реке или озеру, на далекие горизонты. Так поставлены дом П в Михайловском и дом Осиповых в Тригорском. Не случайно Татьяна, приехавшая в Москву, была поражена отсутствием просторного вида из окна:
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор.
Конюшня, кухня и забор
(VII, XLIII, 10–14).
День светского человека. Развлечения
День столичного дворянина имел некоторые типовые черты. Однако те признаки, которыми отмечен день офицера или департаментского чиновника, в романе не отмечены, и останавливаться на них в настоящем очерке не имеет смысла.
Онегин ведет жизнь молодого человека, свободного от служебных обязательств. Следует отметить, что количественно лишь немногочисленная группа дворянской молодежи Петербурга начала XIX в. вела подобную жизнь. Кроме людей неслужащих, такую жизнь могли себе позволить лишь редкие молодые люди из числа богатых и имеющих знатную родню маменькиных сынков, чья служба, чаще всего в министерстве иностранных дел, была чисто фиктивной. Тип такого молодого человека, правда, в несколько более позднее время, мы находим в мемуарах М. Д. Бутурлина, который вспоминает «князя Петра Алексеевича Голицына и неразлучного его друга Сергея (отчество забыл) Романова». «Оба они были статские, и оба, кажется, служили тогда по Министерству иностранных дел. Помню, что Петруша (как его звали в обществе) Голицын говаривал, que servant au ministere des affaires etrangeres il etait tres etranger aux affaires <непереводимая игра слов: французское «etrangere» означает и «иностранный» и «чужой» — «служа по министерству иностранных дел, я чужд всяких дел». — Ю. Л.>» (Бутурлин, с. 354).
Офицер-гвардеец в 1819–1820 гг. — в самый разгар аракчеевщины, — если он был в младших чинах (а по возрасту одногодок Онегина в эту пору, конечно, не мог рассчитывать на высокий чин, дающий известные облегчения в порядке каждодневной военной муштры — просмотр ряда биографий дает колебание в чинах между гвардейским поручиком и армейским подполковником), с раннего утра должен был находиться в своей роте, эскадроне или команде. Заведенный Павлом I солдатский порядок, при котором император в 10 часов вечера был в постели, а в пять утра — на ногах, сохранялся и при Александре I, любившем, кокетничая, повторять, что он «простой солдат».[14] «Венчанным солдатом» его именовал П в известной эпиграмме.
Между тем право вставать как можно позже являлось своего рода признаком аристократизма, отделявшим неслужащего дворянина не только от простонародья или собратьев, тянущих фрунтовую лямку, но и от деревенского помещика-хозяина. Мода вставать как можно позже восходила к французской аристократии «старого режима» и была занесена в Россию эмигрантами-роялистами. Парижские светские дамы предреволюционной поры гордились тем, что никогда не видели солнца: просыпаясь на закате, они ложились в постель перед восходом. День начинался с вечера и кончался в утренних сумерках. Ж. Сорэн в комедии «Нравы нашего времени» изобразил диалог между буржуа и аристократкой. Первый восхваляет прелести солнечного дня и слышит ответ: «Фи, месье, это неблагородное удовольствие: солнце — это лишь для черни!» (ср.: Иванов Ив. Политическая роль французского театра в связи с философией XVIII века. — «Учен. зап. Моск. ун-та», 1895. Отд-ние историко-филол., вып. XXII, с. 430). Просыпаться позже, чем другие люди света, имело такое же значение, как являться на бал позже других. Отсюда сюжет типичного анекдота о том, как служака-военный застает своего сибарита-подчиненного в утреннем дезабилье (вполне естественном для светского человека, но стыдном для военного) и в таком виде водит его по лагерю или Петербургу на потеху зрителям. Анекдоты такого рода прикреплялись и к Суворову, и к Румянцеву, и к Павлу I, и к вел. кн. Константину. Жертвами их в этих рассказах оказывались офицеры-аристократы. В свете сказанного, вероятно, проясняется странная причуда княгини Авдотьи Голицыной, прозванной «Princesse Nocturne» (nocturne (франц.) означает «ночная» и, как существительное, — «ночная бабочка»). «Ночная княгиня», проживавшая в особняке на Миллионной, — красавица, «обворожительная как свобода» (Вяземский), предмет увлечений П и Вяземского, — никогда не появлялась при дневном свете и никогда не видела солнца. Собирая в своем особняке утонченное и либеральное общество, она принимала только ночью. Это вызвало при Николае I даже тревогу Третьего отделения: «Княгиня Голицына, жительствующая в собственном доме, что в Большой Миллионной, которая, как уже по известности, имеет обыкновение спать днем, а ночью занимается компаниями, — и такое употребление времени относится к большому подозрению, ибо бывают в сие время особенные занятия какими-то тайными делами…» (Модзалевский Б. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925, с. 79). К дому Голицыной был приставлен тайный агент. Опасения эти, несмотря на неуклюжесть полицейских преувеличений, не были совсем лишены оснований: в обстановке аракчеевщины, под властью «венчанного солдата», аристократическая партикулярность приобретала оттенок независимости, заметный, хотя и терпимый при Александре I и превращавшийся почти в крамолу при его преемнике.
Утренний туалет и чашка кофе или чаю сменялись к двум-трем часам дня прогулкой. Прогулка пешком, верхом или в коляске занимала час-два. Излюбленными местами гуляний петербургских франтов в 1810 — 1820-х гг. были Невский проспект и Английская набережная Невы. Прогуливались также по Адмиралтейскому бульвару, который был в три аллеи насажен в начале XIX в. на месте обновленного при Павле гласиса Адмиралтейства (гласис — насыпь перед рвом).[15]
Ежедневная прогулка Александра I повлияла на то, что модное дневное гуляние проходило по определенному маршруту. «В час полудни он выходил из Зимнего дворца, следовал по Дворцовой набережной, у Прачешного моста поворачивал по Фонтанке до Аничковского моста <…> Затем государь возвращался к себе Невским проспектом. Прогулка повторялась каждый день и называлась le tour imperial <императорский круг. — Ю. Л.>. Какая бы ни была погода, государь шел в одном сюртуке…» (Воспоминания гр. В. А. Соллогуба. — В кн.: Помещичья Россия… с. 91). Император, как правило, прогуливался без сопровождающих лиц, разглядывая дам в лорнет (он был близорук) и отвечая на поклоны прохожих. Толпа в эти часы состояла из чиновников, чья служба носила фиктивный или полуфиктивный характер. Они, естественно, могли заполнять в присутственные часы Невский, наряду с гуляющими дамами, приезжими из провинции и неслужащими франтами. Именно в эти часы Онегин гулял по «бульвару».[16]
Около четырех часов пополудни наступало время обеда. Такие часы еще явственно ощущались как поздние и «европейские»: для многих было еще памятно время, когда обед начинался в двенадцать.
Молодой человек, ведущий холостой образ жизни, редко содержал повара — крепостного или наемного иностранца — и предпочитал обедать в ресторане. За исключением нескольких первоклассных ресторанов, расположенных на Невском, обеды в петербургских трактирах были хуже по качеству, чем в Москве. О. А. Пржецлавский вспоминал. «Кулинарная часть в публичных заведениях пребывала в каком-то первобытном состоянии, на очень низкой степени. Холостому человеку, не имевшему своей кухни, почти невозможно было обедать в русских трактирах. При том же заведения эти закрывались вечером довольно рано. При выходе из театра, можно было поужинать только в одном ресторане, где-то на Невском проспекте, под землею; его содержал Доменик» (Помещичья Россия… с. 68).
«Холостую» атмосферу ресторанного обеда ярко обрисовывает П в письмах весны 1834 г. к Наталье Николаевне, уехавшей через Москву на Полотняный завод: «…явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали подчивать меня шампанским и пуншем, и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне? Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уж более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану ботвинью и beaf-steaks» (XV, 128). И позже: «Обедаю у Дюме часа в 2, чтоб не встретиться с холостою шайкою» (там же, 143).
Довольно полный обзор петербургских ресторанов 1820-х гг. (правда, относящийся ко времени несколько более позднему, чем действие первой главы романа) находим в одном из дневников современников: «1-го июня 1829 года. Обедал в гостинице Гейде, на Васильевском острову, в Кадетской линии, — русских почти здесь не видно, все иностранцы. Обед дешевый, два рубля ассигнаций, но пирожного не подают никакого и ни за какие деньги. Странный обычай! В салат кладут мало масла и много уксуса. 2-го июня. Обедал в немецкой ресторации Клея, на Невском проспекте. Старое и закопченное заведение. Больше всего немцы, вина пьют мало, зато много пива. Обед дешев; мне подали лафиту в 1 рубль; у меня после этого два дня болел живот. 3-го июня обед у Дюме. По качеству обед этот самый дешевый и самый лучший из всех обедов в петербургских ресторациях. Дюме имеет исключительную привилегию — наполнять желудки петербургских львов и денди. 4-го июня. Обед в итальянском вкусе у Александра или Signor<e> Ales<s>andro, по Мойке у Полицейского моста. Здесь немцев не бывает, а более итальянцы и французы. Впрочем, вообще посетителей немного. Он принимает только хорошо знакомых ему людей, изготовляя более обеды для отпуска на дома. Макароны и стофато превосходны! У него прислуживала русская девушка Марья, переименованная в Марианну; самоучкой она выучилась прекрасно говорить по-французски и по-итальянски. 5-го. Обед у Леграна, бывший Фельета, в Большой Морской. Обед хорош; в прошлом году нельзя было обедать здесь два раза сряду, потому что все было одно и то же. В нынешнем году обед за три рубля ассигнациями здесь прекрасный и разнообразный. Сервизы и все принадлежности — прелесть. Прислуживают исключительно татары, во фраках. 6-го июня. Превосходный обед у Сен-Жоржа, по Мойке (теперь Донон), почти против Ales<s>andro. Домик на дворе деревянный, просто, но со вкусом убранный. Каждый посетитель занимает особую комнату; при доме сад; на балконе обедать прелесть; сервизы превосходные, вино отличное. Обед в три и пять рублей ассигнациями. 7-го июня нигде не обедал, потому, что неосторожно позавтракал и испортил аппетит. По дороге к Ales<s>andro, тоже на Мойке есть маленькая лавка Диаманта, в которой подаются страсбургские пироги, ветчина и проч. Здесь обедать нельзя, но можно брать на дом. По просьбе хозяин позволил мне позавтракать. Кушанья у него превосходны, г. Диамант золотой мастер. Лавка его напоминает мне парижские guinguettes (маленькие трактиры). 8-го июня. Обедал у Simon-Grand-Jean, по Большой Конюшенной. Обед хорош, но нестерпим запах от кухни. 9-го июня. Обедал у Кулона. Дюме лучше и дешевле. Впрочем, здесь больше обеды для живущих в самой гостинице; вино прекрасное. 10-го июня. Обед у Отто; вкусный, сытный и дешевый; из дешевых обедов лучше едва ли можно сыскать в Петербурге» (цит. по: Пыляев М. И. Старое житье. Очерки и рассказы. СПб., 1892, с. 8–9).
Настоящий отрывок характеризует положение конца 1820-х гг. и к началу десятилетия может быть применен лишь с некоторыми оговорками. Так, например, местом сбора петербургских денди в это время был не ресторан Дюме, а ресторан Талона на Невском. Однако общая картина была та же: хороших ресторанов было немного, каждый посещался определенным, устойчивым кругом лиц. Появиться в том или ином ресторане (особенно в таком, как Талона или позже Дюме) означало явиться на сборный пункт холостой молодежи — «львов» и «денди». А это обязывало к определенному стилю поведения и на все оставшееся до вечера время. Не случайно П должен был в 1834 г. обедать раньше обычного времени, чтобы избегать встречи с «холостою шайкою».
Послеобеденное время молодой франт стремился «убить», заполнив промежуток между рестораном и балом. Одной из возможностей был театр. Он для петербургского франта той поры не только художественное зрелище и своеобразный клуб, где происходили светские встречи, но и место любовных интриг и доступных закулисных увлечений. «Театральная школа находилась через дом от нас, на Екатерининском канале. Влюбленные в воспитанниц каждый день прохаживались бессчетное число раз по набережной канала мимо окон школы. Воспитанницы помещались в третьем этаже…» (Панаева А. Я. [Головачева]. Воспоминания. М., 1972, с. 368).
В течение второй половины XVIII и первой трети XIX вв. распорядок дня неуклонно сдвигался. В XVIII в. деловой день начинался рано: «Военные являлись на службы в шестом часу, гражданские чины в восемь и без отлагательств открывали Присутствия, а в час пополудни, следуя регламенту, прекращали свои суждения. Таким образом они весьма редко возвращались к себе домой позднее второго часа, военные же бывали в квартирах уже в двенадцатом часу <…> Частные вечера все вообще начинались в семь часов. Кто приезжал на них часов в девять или в десять, хозяин тотчас спрашивал: «А что так поздно?» Ответ бывал: «Театр или консерт задержал, кареты не дождался!» (Макаров. О времени обедов, ужинов и съездов в Москве с 1792 по 1844 год. — Щукинский сб., вып. 2. М., 1903, с. 2). В. В. Ключарев писал в 1790-е гг. И. А. Молчанову: «Могу у вас быть до седьмого часа, а в седмь часов начнется бал в клубе, то всем известно». В 1799 г. званый обед у главнокомандующего в Москве гр. И. П. Салтыкова начинался в три часа, а вечер — в семь и «кончался легким ужином часу во втором заполночь, а иногда и ранее» (там же, с. 4). В 1807 г. к московскому главнокомандующему Т. И. Тутолмину начинали съезжаться на его вечера и балы от девяти до десяти часов. «…Записные же щеголи, по нынешнему львы, туда же являлись в одиннадцать, но это, иногда, замечалось им хозяином с неудовольствием…» (там же, с. 5). В 1810-е гг. распорядок дня еще более сдвинулся: в 1812 г. «мадам Сталь, будучи в Москве, обыкновенно завтракала в Галерее на Тверском бульваре, это бывало в два часа» (там же, с. 8).
К началу 1820-х гг. обед сдвинулся к четырем часам, время вечерних собраний — к десяти, щеголи же не приезжали на балы до полуночи. Там, где после бала имел место ужин, он проходил в два-три часа ночи.
Бал
Танцы занимают в EO значительное место: им посвящены авторские отступления, они играют большую сюжетную роль.
Танцы были важным структурным элементом дворянского быта. Их роль существенно отличалась как от функции танцев в народном быту того времени, так и от современной.
В жизни русского столичного дворянина XVIII — начала XIX вв. время разделялось на две половины: пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам — здесь дворянин выступал как частное лицо; другую половину занимала служба — военная или статская, в которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в венчающем день «собрании», на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе — он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих.
Таким образом, бал оказывался, с одной стороны, сферой, противоположной службе — областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили внеслужебные ценностные критерии, и юный поручик, ловко танцующий и умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего израненного полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины II на вопрос Фонвизина: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» — «…в обществе жить не есть не делать ничего» (Фонвизин Д. И. Собр. соч. В 2-х т. Т. II. М.-Л., 1959, с. 273).
Со времени петровских ассамблей остро встал вопрос и об организационных формах светских общений. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфически дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов. Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу соответствовали типовые эмоции (от входа в залу до разъезда), фиксированные значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, «бальные вольности», которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как борение «порядка» и «свободы».
Основным элементом бала как общественно-эстетического действа были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. «Мазурочная болтовня» требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговора, способности к быстрому, эпиграмматическому ответу. Бальный разговор был далек от той игры интеллектуальных сил, «увлекательного разговора высшей образованности» (VIII, 1, 151), который культивировался в литературных салонах Парижа в XVIII столетии и на отсутствие которого в России жаловался П. Тем не менее он имел свою прелесть — оживленность свободы и непринужденность беседы между мужчиной и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в невозможной в других обстоятельствах близости («Верней нет места для признаний…» — I, XXIX, 3).
Обучение танцам начиналось рано — с пяти-шести лет. Видимо, П начал учиться танцам уже в 1808 г. До лета 1811 г. он с сестрой посещал танцевальные вечера у Трубецких, Бутурлиных и Сушковых, а по четвергам детские балы у московского танцмейстера Иогеля. Балы у Иогеля описаны в воспоминаниях балетмейстера А. П. Глушковского (см.: Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. М. — Л., 1940, с. 196–197).
Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфебелем. Составитель «Правил», изданных в 1825 г., Л. Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения, осуждая при этом не самое методу, а лишь ее слишком жесткое применение: «Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги вбок, подобно ему, в параллельной линии <…> Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, при том неисправные; то учитель не могши сам ничего сделать, почел за долг употребить четырех человек, из коих два выворачивали ноги, а два держали колена. Сколько сей ни кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели — пока наконец не треснуло в ноге, и тогда мучители оставили его <…> Я почел за долг рассказать сей случай для предостережения других. Неизвестно, кто выдумал станки для ног; и станки на винтах для ног, колен и спины: изобретение очень хорошее! однако и оно может сделаться небезвредным от лишнего напряжения» (Правила для благородных общественных танцев, изданные учителем танцеванья при Слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков, 1825, с. 13–14).
Длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но u уверенность в движениях, свободу и независимость в постановке фигуры, что определенным образом влияло и на психический строй человека: в условном мире светского общения он чувствовал себя уверенно и свободно, как опытный актер на сцене. Изящество, проявляющееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания. Л. Н. Толстой, описывая в романе «Декабристы» вернувшуюся из Сибири жену декабриста, подчеркивает, что, несмотря на долгие годы, проведенные ею в тяжелейших условиях добровольного изгнания, «нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было — не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом…» Характерно, что способность споткнуться здесь связывается не с внешними условиями, а с характером и воспитанием человека. Душевное и физическое изящество связаны и исключают возможность неточных или некрасивых движений и жестов. Аристократической простоте движений людей «хорошего общества» и в жизни, и в литературе противостоит скованность или излишняя развязность (результат борьбы с собственной застенчивостью) жестов разночинца.
Бал в эпоху Онегина начинался польским (полонезом), который в торжественной функции первого танца сменил менуэт. Менуэт отошел в прошлое вместе с королевской Францией. «Со времени перемен, последовавших у европейцев как в одежде, так и в образе мыслей, явились новости и в танцах; и тогда польской, который имеет более свободы и танцуется неопределенным числом пар, а потому освобождает от излишней и строгой выдержки, свойственной менуэту, занял место первоначального танца» (Правила… с. 55).
Показательно, что в EO полонез не упоминается ни разу. В Петербурге поэт вводит нас в бальную залу в момент, когда «толпа мазуркой занята» (I, XXVIII, 7), т. е. в самый разгар праздника, чем подчеркивается модное опоздание Онегина. Но и на балу у Лариных полонез опущен, и описание праздника начинается со второго танца — вальса. С полонезом можно связать, вероятно, лишь не включенную в окончательный текст строфу, вводящую в сцену петербургского бала в восьмой главе великую княгиню Александру Федоровну (будущую императрицу), которую П именует Лаллой-Рук по маскарадному костюму героини поэмы Т. Мура, который она надела во время маскарада в Берлине (см.: Lalla-Roukh, Divertissement execute au chateau royal de Berlin le 27 janvier 1821. Berlin, 1822).
После стихотворения Жуковского «Лалла-Рук» (1821) имя это стало поэтическим прозвищем Александры Федоровны:
И в зале яркой и богатой
Когда в умолкший, тесный круг
Подобна лилии крылатой
Колеблясь входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою
И тихо вьется и скользит
Звезда-Харита меж Харит
И взор смешенных поколений
Стремится ревностью горя
То на нее, то на царя
Для них без глаз один Евг<ений>
Одной Татьяной поражен;
Одну Т<атьяну> видит он
(VI, 637).
Г. А. Гуковский так прокомментировал эти стихи: «Онегин влюблен. Он на балу. И вот в залу входит императрица, «Лалла-Рук», и с ней сам царь». Эта строфа, по мнению исследователя, «явный анахронизм: действие восьмой главы происходит в 1825 году» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 258). Однако в данном случае комментатор ошибся: Александра Федоровна присутствует на балу в восьмой главе не как императрица (ею она сделалась лишь в декабре 1825 г.), а как великая княгиня. Соответственно упомянутый в стихах царь не Николай I, а Александр I, который часто бывал партнером Александры Федоровны в танцах (ср. в ее воспоминаниях: «Я обыкновенно доставалась на долю императора, который казался в восторге от этого…» — Шильдер Н. К. Имп. Николай Первый, его жизнь и царствование, т. I. СПб., 1903, с. 116). Упомянутый в строфе бал, вероятно, приходится на позднюю осень 1824 г., а не на 1825 г., как полагает Гуковский: зимой влюбленный Онегин, «как сурок» (VIII, XXXIX, 7) сидел дома, а 4 апреля 1825 г. Александр I покинул Петербург, отправившись в Варшаву, и на столичных балах никогда уже больше не бывал.
Косвенным подтверждением того, что «царь» в данном случае Александр, а не Николай, является следующее соображение: из текста видно, что «Лалла-Рук» «скользит» в паре с царем. Возможность того, чтобы император танцевал, открывая бал, со своей женой, абсолютно исключается, как противоречащая этикету. Если бал происходит в доме какого-либо вельможи, император открывает его в паре с хозяйкой дома, если же это придворный бал — со старшей (по положению мужа) приглашенной гостьей. Если одновременно танцуют и император, и императрица (больная и забытая жена Александра I Елизавета Алексеевна в начале 1820-х гг. балов не посещала), то она идет в первой паре с хозяином, а царь во второй — с хозяйкой дома. На придворном балу старшей дамой, естественно, оказывается великая княгиня — жена брата царя. П и рисует такую, реально подтверждаемую документами картину: Александр I в паре с великой княгиней Александрой Федоровной открывает бал, привлекая взоры всех присутствующих, кроме влюбленного Онегина. Позже Л. Н. Толстой, не зная этого, не опубликованного тогда отрывка, нарисует сходную ситуацию: занятая собственными переживаниями, Наташа Ростова не заметит на балу государя. Ход мысли П и Толстого о противоположности истинных и мишурных ценностей развивался в одном направлении. Стих «И тихо вьется и скользит» свидетельствует, что речь идет не о появлении «Лаллы-Рук» в зале, а о моменте открытия ею бала в первой паре, т. е. о полонезе.
Бал не фигурирует в EO как официально-парадное торжество, и поэтому полонез не упомянут. Показательно, что в «Войне и мире» Толстой, описывая первый бал Наташи, противопоставит полонез, который открывает «государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома» («за ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной,[17] потом министры, разные генералы»), второму танцу — вальсу, который становится моментом торжества Наташи. Государь же из мира повествования в этот момент исчезает (т. II, ч. III, гл. 16). Эта противопоставленность двух обликов бала («польский — другие танцы») определила и то, что в EO балы начинаются «не с начала», и то, что из текста исключено упоминание полонеза. Примечательно, что разные мемуаристы свидетельствуют о любви П к танцам, но ни в одном из воспоминаний мы не видим его танцующим польский.
Второй бальный танец — вальс — П назвал «однообразный и безумный» (V, XLI, 1). Эпитеты эти имеют не только эмоциональный смысл. «Однообразный» поскольку, в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретение новых фигур, и уж тем более от танца-игры котильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что «в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас» (Слонимский Ю. Балетные строки Пушкина. Л., 1974, с. 10). Определение вальса как «безумного» имеет другой смысл: вальс, несмотря на всеобщее распространение (Л. Петровский считает, что «излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел, как танцуется» — Правила… с. 70), пользовался в 1820-е гг. репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности <…>, чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие» (Правила… с. 72). Еще определеннее писала Жанлис в «Словаре придворного этикета»: «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом! Вот что такое этот вальс!.. <…> Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы» (Dictionnaire critique et raisonne des etiquettes de la cour […] par M-me la comtesse de Genlis. Paris, v. II, 1818, p. 355).
Не только скучная моралистка Жанлис, но и пламенный Вертер Гете считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя.
Однако слова Жанлис интересны еще и в другом отношении: вальс противопоставляется классическим танцам как романтический; страстный, безумный, опасный и близкий к природе, он противостоит этикетным танцам старого времени. «Простонародность» вальса ощущалась остро: «Wiener Walz, состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на правой, да на левой ноге и притом так скоро, как шалёной, танцевали; после чего предоставляю суждению читателя, соответствует ли он благородному собранию или другому какому» (Правила… с. 70). Вальс был допущен на балы Европы как дань новому времени. Это был танец модный и молодежный.
М а з у р к а составляла центр бала и знаменовала собой его кульминацию. Мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющим «соль» танца. И солист, и распорядитель мазурки должны были проявлять изобретательность и способность импровизировать. «Шик мазурки состоит в том, что кавалер даму берет себе на грудь, тут же ударяя себя пяткой в centre de gravite <франц. центр тяжести. — Ю. Л.> (чтобы не сказать задница), летит на другой конец зала и говорит: «Мазуречка, пане», а дама ему: «Мазуречка, пан» <…> Тогда неслись попарно, а не танцевали спокойно, как теперь» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931, с. 119). В пределах мазурки существовало несколько резко выраженных стилей. Отличие между столицей и провинцией выражалось в противопоставлении «изысканного» и «бравурного» исполнения мазурки:
Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам
(V, XLII, 1–7)
«Когда появились подковки и высокие подборы у сапогов, делая шаги, немилосердно стали стучать, так, что, когда в одном публичном собрании, где находилось слишком двести молодых людей мужского пола, заиграла музыка мазурку <…> подняли такую стукотню, что и музыку заглушили» (Правила…, с. 83).
Но существовало и другое противопоставление. Старая «французская» манера исполнения мазурки требовала от кавалера легкости прыжков (ср.: «Легко мазурку танцевал» — I, IV, 3), т. н. антрша. Антрша (или «антреша»), по пояснению одного танцевального справочника, «говорится о скачке, в котором нога об ногу ударяется три раза в то время, как тело бывает в воздухе» <Компан Шарль> Танцевальный словарь… М., 1790, с. 182). Французская, «светская» и «любезная», манера мазурки в 1820-е гг. стала сменяться английской, связанной с дендизмом. Последняя требовала от кавалера томных, ленивых движений, подчеркивавших, что ему скучно танцевать и он это делает против воли. Кавалер отказывался от мазурочной болтовни и во время танца угрюмо молчал.
«… И вообще ни один фешенебельный кавалер сейчас не танцует, это не полагается! — Вот как? — удивленно спросил мистер Смит <…> — Нет, клянусь честью, нет! — пробормотал мистер Ритсон. — Нет, разве что пройдутся в кадрили или повертятся в вальсе <…> нет, к чорту танцы, это очень уж вульгарно!» (Бульвер-Литтон, с. 228). В воспоминаниях Смирновой-Россет рассказан эпизод ее первой встречи с П: еще институткой она пригласила его на мазурку. П молча и лениво пару раз прошелся с ней по залу. (А. О. Смирнова. Записки. М., 1929, с. 332). То, что Онегин «легко мазурку танцевал» (I, IV, 3), показывает, что его дендизм и модное разочарование были в первой главе наполовину поддельными. Ради них он не мог отказаться от удовольствия попрыгать в мазурке.
Декабрист и либерал 1820-х гг. усвоили себе «английское» отношение к танцам, доведя его до полного отказа от них. В пушкинском «Романе в письмах» Владимир пишет другу: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг <со шпагой нельзя было танцевать, офицер, желающий танцевать, отстегивал шпагу и оставлял ее у швейцара. — Ю. Л.> — нам было неприлично танцовать, и некогда заниматься дамами» (VIII, 1, 55). На серьезных дружеских вечерах у Липранди не было танцев («Русский архив». 1866, № 7, стб. 1255). Декабрист Н. И. Тургенев писал брату Сергею 25 марта 1819 г. о том удивлении, которое вызвало у него известие, что последний танцевал на балу в Париже (С. И. Тургенев находился во Франции при командующем русским экспедиционным корпусом гр. М. С. Воронцове): «Ты, я слышу, танцуешь. Гр<афу> Головину дочь его писала, что с тобою танцевала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une ecossaise constitutionnelle, independante, ou une contredanse monarchique ou une danse contre-monarchique». <франц. конституционный экосез, экосез независимый, монархический контрданс или антимонархический танец — игра слов заключается в перечислении политических партий: конституционалисты, независимые, монархисты — и употреблении приставки «контр» то как танцевального, то как политического термина. — Ю. Л.> (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.-Л., 1936, с. 280). С этими же настроениями связана жалоба княгини Тугоуховской в «Горе от ума»: «Танцовщики ужасно стали редки!» (III, 7). Противоположность между человеком, рассуждающим об Адаме Смите, и человеком, танцующим вальс или мазурку, подчеркивалась ремаркой после программного монолога Чацкого: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием» (III, 22).
Стихи:
Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою…
(V, XLIII, XLIV, 1–3)
имеют в виду одну из фигур мазурки: к кавалеру (или даме) подводят двух дам (или кавалеров) с предложением выбрать. Выбор себе пары воспринимался как знак интереса, благосклонности или (как истолковал Ленский) влюбленности. Николай I упрекал Смирнову-Россет: «Зачем ты меня не выбираешь?» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография, с. 118). В некоторых случаях выбор был сопряжен с угадыванием качеств, загаданных танцорами. Ср.: «Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret? [франц. забвение или сожаление. — Ю. Л.] — прервали разговор…» (VIII, 1, 244). См. также в «После бала» Л. Толстого: «…мазурку я танцевал не с нею <…> Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак утешения и сожаления, улыбалась мне».
И бесконечный котильон
Ее томил как тяжкий сон
(VI, I, 7–8).
К о т и л ь о н — вид кадрили, один из заключающих бал танцев — танцевался на мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, разнообразный и шаловливый танец.»…Там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится <…> Затем следуют фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков, обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок высоко…» (Правила…, с. 74).
Бал был не единственной возможностью весело и умно провести ночь. Альтернативой ему были
… игры юношей разгульных,
Грозы дозоров караульных
(VI, 621) —
холостые попойки в компании молодых гуляк, офицеров-бреттеров, прославленных «шалунов» и пьяниц. Бал, как приличное и вполне светское времяпровождение, противопоставлялся этому разгулу, который, хотя и культивировался в определенных гвардейских кругах, в целом воспринимался как проявление «дурного тона», допустимое для молодого человека лишь в определенных, умеренных пределах. М. Д. Бутурлин, склонный к вольной и разгульной жизни, вспоминал, что был момент, когда он «не пропускал ни одного бала». Это, пишет он, «весьма радовало мою мать, как доказательство, que j’avais pris le gout de la bonne societe» <франц. что я полюбил бывать в хорошем обществе. — Ю. Л.> (Бутурлин, с. 46). Однако вкус к бесшабашной жизни взял верх: «Бывали у меня на квартире довольно частые обеды и ужины. Гостями моими были некоторые из наших офицеров и штатские петербургские мои знакомые, преимущественно из иностранцев; тут шло, разумеется, разливное море шампанского и жженки. Но главная ошибка моя была в том, что после первых визитов с братом в начале приезда моего к княгине Марии Васильевне Кочубей, Наталье Кирилловне Загряжской (весьма много тогда значившей) и к прочим в родстве или прежнем знакомстве с нашим семейством, я перестал посещать это высокое общество. Помню, как однажды, при выходе из французского Каменноостровского театра, старая моя знакомая Елисавета Михайловна Хитрова, узнав меня, воскликнула: «Ах, Мишель!» А я, чтобы избегнуть встречи и экспликаций с нею, чем спуститься с лестницы перистиля, где происходила эта сцена, повернул круто направо мимо колонн фасада; но так как схода на улицу там никакого не было, то я и полетел стремглав на землю с порядочной весьма высоты, рискуя переломить руку или ногу. Вкоренились, к несчастию, во мне привычки разгульной и нараспашку жизни в кругу армейских товарищей с поздними попойками по ресторанам, и потому выезды в великосветские салоны отягощали меня, вследствие чего немного прошло месяцев, как члены того общества решили (и не без оснований), что я малый, погрязший в омуте дурного общества» (Бутурлин, с. 343–344).
Поздние попойки, начинаясь в одном из петербургских ресторанов, оканчивались где-нибудь в «Красном кабачке», стоявшем на седьмой версте по Петергофской дороге и бывшем излюбленным местом офицерского разгула.
Жестокая картежная игра и шумные походы по ночным петербургским улицам дополняли картину. Шумные уличные похождения — «гроза полуночных дозоров» (VIII, III, 6) — были обычным ночным занятием «шалунов». Племянник поэта Дельвига вспоминает: «…Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее <…>. Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению» (Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 124–125). В том же духе, хотя и несколько позже — в самом конце 1820-х гг., М. Д. Бутурлин с приятелями сорвал с двуглавого орла (аптечной вывески) скипетр и державу и шествовал с ними через центр города. Эта «шалость» уже имела достаточно опасный политический подтекст: она давала основания для уголовного обвинения в «оскорблении величества». Не случайно знакомый, к которому они в таком виде явились, «никогда не мог вспомнить без страха это ночное наше посещение». Если это похождение сошло с рук, то за попытку накормить в ресторане супом бюст императора последовало наказание: штатские друзья Бутурлина были сосланы в гражданскую службу на Кавказ и в Астрахань, а он переведен в провинциальный армейский полк (Бутурлин, с. 355–356).
Это не случайно: «безумные пиры», молодежный разгул на фоне аракчеевской (позже николаевской) столицы неизбежно окрашивались в оппозиционные тона (см.: Лотман, Декабрист в повседневной жизни)
Дуэль
Дуэль — поединок, происходящий по определенным правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесенного оскорблением. Таким образом, роль дуэли социально-знаковая. Дуэль представляет собой определенную процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия «честь» в общей системе этики русского европеизированного послепетровского дворянского общества. Естественно, что с позиции, в принципе отвергавшей это понятие, дуэль теряла смысл, превращаясь в ритуализованное убийство.
Русский дворянин XVIII — начала XIX вв. жил и действовал под влиянием двух противоположных регуляторов общественного поведения. Как верноподданный, слуга государства, он подчинялся приказу. Психологическим стимулом подчинения был страх перед карой, настигающей ослушника. Как дворянин, человек сословия, которое одновременно было и социально господствующей корпорацией, и культурной элитой, он подчинялся законам чести. Психологическим стимулом подчинения здесь выступает стыд. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения. В этом смысле значение приобретают занятия, демонстрирующие бесстрашие. Так, например, если «регулярное государство» Петра I рассматривает поведение дворянина на войне как служение государственной пользе, а храбрость его лишь как средство для достижения этой цели, то с позиций чести храбрость превращается в самоцель. Особенно ярко это проявляется в отношении к дуэли: опасность, сближение лицом к лицу со смертью становятся очищающими средствами, снимающими с человека оскорбление. Сам оскорбленный должен решить (в принятии им правильного решения проявляется степень его владения законами чести), является ли бесчестие настолько незначительным, что для его снятия достаточно демонстрации бесстрашия — показа готовности к бою (примирение возможно после вызова и его принятия: принимая вызов, оскорбитель тем самым показывает, что считает противника равным себе и, следовательно, реабилитирует его честь) или знакового изображения боя (примирение происходит после обмена выстрелами или ударами шпаги без каких-либо кровавых намерений с какой-либо стороны). Если оскорбление было более серьезным, таким, которое должно быть смыто кровью, дуэль может закончиться первым ранением (чьим — не играет роли, поскольку честь восстанавливается не нанесением ущерба оскорбителю или местью ему, а фактом пролития крови, в том числе и своей собственной). Наконец, оскорбленный может квалифицировать оскорбление как смертельное, требующее для своего снятия гибели одного из участников ссоры. Существенно, чтобы оценка меры оскорбления — незначительное, кровное или смертельное — соотносилась с оценкой со стороны окружающей социальной среды (например, с полковым общественным мнением): человек, слишком легко идущий на примирение, может прослыть трусом, непропорционально кровожадный — бреттером.
Дуэль как институт корпоративной чести встречала оппозицию с двух сторон. С одной стороны, правительство относилось к поединкам неизменно отрицательно. В «Патенте о поединках и начинании ссор», составлявшем гл. 49 петровского «Устава воинского» (1716), предписывалось: «Ежели случится, что двое на назначенное место выедут, и один против другого шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, такожде и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертию казнить и оных пожитки отписать <…> Ежели же биться начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешены да будут» (цит. по кн.: Памятники русского права, вып. VIII. М., 1961, с. 459–460). К. А. Софроненко считает, что Патент направлен «против старой феодальной знати» (там же, с. 461). В том же духе высказывался и Н. Л. Бродский, который считал, что «дуэль — порожденный феодально-рыцарским обществом обычай кровавой расправы-мести, сохранялся в дворянской среде» (Бродский, 248). Однако дуэль в России не была пережитком, поскольку ничего аналогичного в быту русской «старой феодальной знати» не существовало. На то, что поединок представляет собой нововведение, недвусмысленно указывала Екатерина II: «Предубеждения, не от предков полученные, но перенятые или наносные, чуждые» («Манифест 21 апр. 1787 г.», ср.: «Наказ», статья 482).
Характерно высказывание Николая I: «Я ненавижу дуэли; это варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского» (Пушкин. Письма, т. II, 1826–1830. М.-Л., 1928, с. 185).
На причины отрицательного отношения самодержавной власти к обычаю дуэли указал еще Монтескье в «Духе законов»: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем <…> Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота?» (Кн. I, гл. VIII).
Естественно, что в официальной литературе дуэли преследовались как проявление свободолюбия, «возродившееся зло самонадеянности и вольнодумства века сего» («Подарок человечеству, или Лекарство от поединков». СПб., 1826, с. I; анонимная брошюра, предисловие подписано: «Русской»).
С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме и Природе. С этой позиции дуэль делалась объектом просветительской сатиры или критики. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев писал: «Вы твердой имеете дух, и обидою не сочтете, если осел вас улягнет, или свинья смрадным до вас коснется рылом» («Крестьцы»).
«Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагой или шляпою, повредит ли на голове один волосочик, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле <…> Хворающий зубами даст ли ответ в полголоса, насморк имеющий скажет ли что-нибудь в нос… ни на что не смотрят!.. Того и гляди, что по эфес шпага!.. Также глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал, или недовидел поклона… статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка!» (Страхов Н. Переписка моды… М., 1791, с. 46). Ср. басню А. Е. Измайлова «Поединок» (Сочинения Измайлова, т. 1. СПб., 1849, с. 34–35).
Отрицательно относились к дуэли и масоны — см., например, статью «О поединках» (пер. с англ. А. Брянцева — «Моск. ежемесячн. соч.», 1781, ч. II).
Таким образом, в дуэли, с одной стороны, могла выступать узко сословная идея защиты корпоративной чести, а с другой — общечеловеческая, несмотря на архаические формы, идея защиты человеческого достоинства. Перед лицом поединка придворный шаркун, любимец императора аристократ и флигель-адъютант В. Д. Новосильцев оказывался равен подпоручику Семеновского полка, без состояния и связей, из провинциальных дворян К. П. Чернову (см. ниже).
В связи с этим отношение декабристов к поединку было двойственным. Допуская в теории негативные высказывания в духе общепросветительской критики дуэли, декабристы практически широко пользовались правом поединка. Так, Оболенский убил на дуэли некоего Свиньина (см.: Декабристы. М., 1907, с. 165); многократно вызывал разных лиц и с несколькими дрался Рылеев; Якубович слыл бреттером. Шумный отклик у современников вызвала дуэль Новосильцева и Чернова, которая приобрела характер политического столкновения между защищающим честь сестры членом тайного общества и презирающим человеческое достоинство простых людей аристократом. Оба дуэлянта скончались через несколько дней от полученных ран. Северное общество превратило похороны Чернова в первую в России уличную манифестацию.
Взгляд на дуэль как на средство защиты своего человеческого достоинства не был чужд и П, как показывает его биография.
Несмотря на, в общем, негативную оценку дуэли как «светской вражды» и проявления «ложного стыда», изображение ее в романе не сатирическое, а трагическое, что подразумевает и определенную степень соучастия в судьбе героев. Для того чтобы понять возможность такого подхода, необходимо прокомментировать некоторые технические стороны поединка тех лет.
Прежде всего следует подчеркнуть, что дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. Только пунктуальное следование установленному порядку отличало поединок от убийства. Но необходимость точного соблюдения правил вступала в противоречие с отсутствием в России строго кодифицированной дуэльной системы. Никаких дуэльных кодексов в русской печати, в условиях официального запрета, появиться не могло, не было и юридического органа, который мог бы принять на себя полномочия упорядочения правил поединка. Конечно, можно было бы пользоваться французскими кодексами, но излагаемые там правила не совсем совпадали с русской дуэльной традицией. Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиции и арбитров в вопросах чести. Такую роль в EO выполняет Зарецкий.
Дуэль начиналась с вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой требовала удовлетворения (сатисфакции). С этого момента противники уже не должны были вступать ни в какие общения это брали на себя их представители — секунданты. Выбрав себе секунданта, оскорбленный обсуждал с ним тяжесть нанесенной ему обиды, от чего зависел и характер будущей дуэли — от формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. После этого секундант направлял противнику письменный вызов (картель).
Роль секундантов сводилась к следующему: как посредники между противниками, они прежде всего обязаны были приложить максимальные усилия к примирению. На обязанности секундантов лежало изыскивать все возможности, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя, для мирного решения конфликта. Даже на поле боя секунданты обязаны предпринять последнюю попытку к примирению. Кроме того, секунданты вырабатывают условия дуэли. Если примирение оказывалось невозможным, как это было, например, в дуэли П с Дантесом, секунданты составляли письменные условия и тщательно следили за строгим исполнением всей процедуры.
Условия, подписанные секундантами П и Дантеса, были следующими (подлинник по-французски):
«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.
2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут стрелять.
3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.
5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на поле боя.
6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своею честью строгое соблюдение изложенных здесь условий» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1936, с. 191).
Уbr /словия дуэли П и Дантеса были максимально жестокими (дуэль была рассчитана на смертельный исход), но и условия поединка Онегина и Ленского, к нашему удивлению, быpли также очень жестокими, хотя причин для смертельной вражды здесь явно не было. Поскольку Зарецкий развел друзей на 32 шага, а барьеры, видимо, находились на «благородном расстоянии» (VI, XXXIII, 12), т. е. на дистанции в 10 шагов, то каждый мог сделать 11 шагов. Однако не исключено, что Зарецкий определил дистанцию между барьерами менее чем в 10 шагов. Требования, чтобы после первого выстрела противники не двигались, видимо, не было, что подталкивало их к наиболее опасной тактике: не стреляя на ходу, быстро выйти к барьеру и на предельно близкой дистанции целиться в неподвижного противника. Именно таковы были случаи, когда жертвами становились оба дуэлянта. Так было в дуэли Новосильцева и Чернова. Требование, чтобы противники остановились на месте, на котором их застал первый выстрел, было минимально возможным смягчением условий. Характерно, что когда Грибоедов стрелялся с Якубовичем, то, хотя такого требования в условиях не было, он все же остановился на том месте, на котором застал его выстрел, и стрелял, не подходя к барьеру.
Зарецкий был единственным распорядителем дуэли, и тем более заметно, что, «в дуэлях классик и педант» (VI, XXVI, 8), он вел дело с большими упущениями, вернее, сознательно игнорируя все, что могло устранить кровавый исход. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля; он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка покончить дело миром также входила в прямые его обязанности, тем более что кровной обиды нанесено не было и всем, кроме 18-летнего Ленского, было ясно, что дело заключается в недоразумении. Вместо этого он «встал без объяснений <…> Имея дома много дел» (VI, IX, 9-11). Зарецкий мог остановить дуэль и в другой момент: появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением (секунданты, как и противники, должны быть социально равными; Гильо — француз и свободно нанятый лакей — формально не мог быть отведен, хотя появление его в этой роли, как и мотивировка, что он по крайней мере «малый честный», являлись недвусмысленной обидой для Зарецкого), а одновременно и грубым нарушением правил, так как секунданты должны были встретиться накануне без противников и составить правила поединка.
Наконец, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Онегина неявившимся. «Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первый имеет право покинуть место поединка и его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника» (Дурасов. Дуэльный кодекс. Град св. Петра, 1908, с. 56). Онегин опоздал более, чем на час.[18]
Таким образом, Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, а как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и шумном — что применительно к дуэли означало кровавом — исходе.
Ср. пример из области «дуэльной классики»: в 1766 г. Казанова дрался на дуэли в Варшаве с любимцем польского короля Браницким, который явился на поле чести в сопровождении блестящей свиты. Казанова же, иностранец и путешественник, мог привести в качестве свидетеля лишь кого-либо из своих слуг. Однако он отказался от такого решения, как заведомо невозможного — оскорбительного для противника и его секундантов и мало лестного для него самого: сомнительное достоинство секунданта бросило бы тень на его собственную безупречность как человека чести. Он предпочел попросить, чтобы противник назначил ему секунданта из числа своей аристократической свиты. Казанова пошел на риск иметь в секунданте врага, но не согласился призвать наемного слугу быть свидетелем в деле чести (см.: Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Paris, MCMXXXI, v. X, p. 163).
Любопытно отметить, что аналогичная ситуация отчасти повторилась в трагической дуэли П и Дантеса. Испытав затруднения в поисках секунданта, П писал утром 27 января 1837 г. д’Аршиаку, что привезет своего секунданта «лишь на место встречи», а далее, впадая в противоречие с самим собой, но вполне в духе Онегина, он предоставляет Геккерену выбрать ему секунданта: «…я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей» (XVI, 225 и 410). Однако д’Аршиак, в отличие от Зарецкого, решительно пресек такую возможность, заявив, что «свидание между секундантами, необходимое перед поединком» <подчеркнуто д’Аршиаком. — Ю. Л.>, является условием, отказ от которого равносилен отказу от дуэли. Свидание д’Аршиака и Данзаса состоялось, и дуэль стала формально возможна. Свидание Зарецкого и Гильо состоялось лишь на поле боя, но Зарецкий не остановил поединка, хотя мог это сделать.
Онегин и Зарецкий — оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое раздраженное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли и в серьезность которой все еще не верит, а Зарецкий потому, что видит в дуэли забавную историю, предмет сплетен и розыгрышей…
Поведение Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел его сделать убийцей поневоле. И для П, и для читателей романа, знакомых с дуэлью не понаслышке, было очевидно, что тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет с ходу, с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета, а, идя на риск, дает по себе выстрелить, требует противника к барьеру и с короткой дистанции расстреливает его как неподвижную мишень.
Так, например, во время дуэли Завадовского и Шереметьева, знаменитой по роли в биографии Грибоедова (1817), мы видим классический случай поведения бреттера: «Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметьева или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. «Ah!», сказал он: «il en voulait a ma vie! A la barriere» <франц. Ого! он покушается на мою жизнь! К барьеру! — Ю. Л.>.
Делать было нечего. Шереметьев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, — он ранил Шереметьева в живот!»
Для того чтобы понять, какое удовольствие мог находить во всем этом деле человек типа Завадовского, следует добавить, что присутствовавший на дуэли как зритель приятель П Каверин (член Союза Благоденствия, с которым Онегин в первой главе встречался у Talon, известный кутила и буян), увидав, как раненый Шереметьев «несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу», подошел к раненому и сказал: «Что, Вася? Репка?» Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им иронически в смысле: «Что же? вкусно ли? хороша ли закуска?» (А. С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. Л., 1929, с. 279–280). Следует отметить, что, вопреки правилам дуэли, на поединок нередко собиралась публика как на зрелище.
Если же опытный стрелок производил выстрел первым, то это, как правило, свидетельствовало о волнении, приводившем к случайному нажатию спускового крючка. Вот описание дуэли, проведенной по всем правилам дендизма, — стреляются английский денди Пелэм и французский щеголь, оба опытные дуэлянты:
«Француз и его секундант уже дожидались нас <зд.: это сознательное оскорбление; норма утонченной вежливости состоит в том, чтобы прибыть на место дуэли точно одновременно — Онегин превзошел все допустимое, опоздав более чем на час. — Ю. Л.>. Я заметил, что противник бледен и неспокоен мне думалось, не от страха, а от ярости <…> Я посмотрел на д’Азимара в упор и прицелился. Его пистолет выстрелил на секунду раньше, чем он ожидал, — вероятно, у него дрогнула рука — пуля задела мою шляпу. Я целился вернее и ранил его в плечо — именно туда, куда хотел» (Бульвер-Литтон, с. 174).
Возникает, однако, вопрос: почему все-таки Онегин стрелял в Ленского, а не мимо? Во-первых, демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Во-вторых, в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль начиналась сначала и жизнь противнику можно было сохранить только ценой собственной смерти или раны, а бреттерские легенды, формировавшие общественное мнение, поэтизировали убийцу, а не убитого.[19]
Надо учитывать также еще одно существенное обстоятельство. Дуэль с ее строгим ритуалом, представляющая целостное театрализованное действо жертвоприношение ради чести, обладает строгим сценарием. Как всякий жесткий ритуал, она лишает участников индивидуальной воли. Остановить или изменить что-либо в дуэли отдельный участник не властен. В описании дуэли у Бульвер-Литтона имеется эпизод «Когда мы стали по местам, Винсент <секундант. — Ю. Л.> подошел ко мне и тихо сказал: — Бога ради, позвольте мне уладить дело миром, если только возможно! — Это не в нашей власти, ответил я» (Бульвер-Литтон, с. 174, курс. Б.-Л.). Ср. в «Войне и мире»:
«— Ну, начинать! — сказал Долохов. — Что ж, — сказал Пьер, все так же улыбаясь.
Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться» (т. II, ч. I, гл. 5). Показательно, что Пьер, всю ночь думавший: «К чему же эта дуэль, это убийство?» — попав на боевое поле, выстрелил первым и ранил Долохова в левый бок (рана легко могла оказаться смертельной)
Исключительно интересны в этом отношении записки Н. Муравьева-Карского — свидетеля осведомленного и точного, который приводит слова Грибоедова о его чувствах во время дуэли с Якубовичем. Грибоедов не испытывал никакой личной неприязни к своему противнику, дуэль с которым была лишь завершением «четверной дуэли»,[20] начатой Шереметьевым и Завадовским. Он предлагал мирный исход, от которого Якубович отказался, также подчеркнув, что не испытывает никакой личной вражды к Грибоедову и лишь исполняет слово, данное покойному Шереметьеву. И тем более знаменательно, что, встав с мирными намерениями к барьеру, Грибоедов по ходу дуэли почувствовал желание убить Якубовича — пуля прошла так близко от головы, что «Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку <…> Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал» (Грибоедов, его жизнь и гибель… Л., 1929, с. 112).
Для читателя, не утратившего еще живой связи с дуэльной традицией и способного понять смысловые оттенки нарисованной Пушкиным картины, было очевидно, что Онегин «любил его <Ленского. — Ю. Л.> и, целясь в него, не хотел ранить» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. Т. VII. М., 1956, с. 206).
Эта способность дуэли, втягивая людей, лишать их собственной воли и превращать в игрушки и автоматы, очень важна (проблема автомата весьма волновала П, см.: Roman Jakobson. Puskin and His Sculptural Myth. The Hague — Paris, Mouton, 1975).
Особенно важно это для понимания образа Онегина.
Герой романа, отстраняющий все формы внешней нивелировки своей личности и этим противостоящий Татьяне, органически связанной с коллективной жизнью народных обычаев, поверий, привычек, в шестой главе EO изменяет себе: против собственного желания он признает диктат норм поведения, навязываемых ему Зарецким и «общественным мнением», и тут же, теряя волю, становится куклой в руках безликого ритуала дуэли. У П есть целая галерея «оживающих» статуй, но есть и цепь живых людей, превращающихся в автоматы (см.: Лотман, Тема карт…). Онегин в шестой главе выступает как родоначальник этих персонажей.
Основным механизмом, при помощи которого общество, презираемое Онегиным, все же властно управляет его поступками, является боязнь быть смешным или сделаться предметом сплетен. Следует учитывать, что неписаные правила русской дуэли конца XVIII — начала XIX вв. были значительно более суровыми, чем, например, во Франции, а с характером узаконенной актом 13 мая 1894 г. поздней русской дуэли (см. «Поединок» А. И. Куприна) вообще не могли идти ни в какое сравнение. В то время как обычное расстояние между барьерами в начале XIX века было 10–12 шагов, а нередки были случаи, когда противников разделяло лишь 6 шагов,[21] за период между 20 мая 1894 и 20 мая 1910 из 322 имевших место поединков ни одного не было с дистанцией менее 12 шагов, лишь один — с дистанцией в 12 шагов. Основная же масса поединков происходила на расстоянии 20–30 шагов, т. е. с дистанции, с которой в начале века никто не думал стреляться. Естественно, что из 322 поединков лишь 15 имели смертельные исходы (данные почерпнуты из кн. генерал-майора И. Микулина «Пособие для ведения дел чести в офицерской среде». СПб., 1912, ч. I, табл. № 1, с. 176–201). Между тем в онегинскую эпоху нерезультативные дуэли вызывали ироническое отношение. При отсутствии твердо зафиксированных правил резко возрастало значение атмосферы, создаваемой вокруг поединков бреттерами — хранителями дуэльных традиций. Эти последние культивировали дуэль кровавую и жестокую. Человек, выходивший к барьеру, должен был проявить незаурядную духовную самостоятельность, чтобы сохранить собственный тип поведения, а не принять утвержденные и навязанные ему нормы. Поведение Онегина определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами, которые он испытывал по отношению к Ленскому, и боязнью показаться смешным или трусливым, нарушив условные нормы поведения у барьера.
Любая, а не только «неправильная» дуэль была в России уголовным преступлением. Каждая дуэль становилась в дальнейшем предметом судебного разбирательства. И противники, и секунданты несли уголовную ответственность. Суд, следуя букве закона, приговаривал дуэлянтов к смертной казни, которая в дальнейшем для офицеров чаще всего заменялась разжалованием в солдаты с правом выслуги (перевод на Кавказ давал возможность быстрого получения снова офицерского звания). Онегин, как неслужащий дворянин, вероятнее всего, отделался бы месяцем или двумя крепости и последующим церковным покаянием. Однако, судя по тексту романа, дуэль Онегина и Ленского вообще не сделалась предметом судебного разбирательства. Это могло произойти, если приходской священник зафиксировал смерть Ленского как последовавшую от несчастного случая или как результат самоубийства. Строфы XL–XLI шестой главы, несмотря на связь их с общими элегическими штампами могилы «юного поэта», позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, т. е. как самоубийца.
Условная этика дуэли существовала параллельно с общечеловеческими нормами нравственности, не смешиваясь и не отменяя их. Это приводило к тому, что победитель на поединке, с одной стороны, был окружен ореолом общественного интереса, типично выраженного словами, которые вспоминает Каренин: «Молодецки поступил; вызвал на дуэль и убил» (Толстой Л. Н. «Анна Каренина»). С другой стороны, все дуэльные обычаи не могли заставить его забыть, что он убийца. Так, В. А. Оленина вспоминала о декабристе Е. Оболенском: «Этот нещастной имел дюэль, — и убил — с тех пор, как Орест, преследуемый фуриями, так и он нигде уже не находил себе покоя» (Декабристы. Летописи гос. лит. музея, III. M., 1938, с. 488). В. А. Оленина знала Оболенского до 14 декабря, но и воспитанница М. И. Муравьева-Апостола, выросшая в Сибири А. П. Созонович, вспоминает: «Прискорбное это событие терзало его всю жизнь» (Декабристы. Материалы для их характеристики. М., 1907, с. 165). Ни восстание, ни суд, ни каторга не смягчили этого переживания. То же можно сказать и о ряде других случаев.
Для психологического состояния Онегина VII–VIII глав это очень существенно.
Средства передвижения. Дорога
Передвижения занимают в EO исключительно большое место: действие романа начинается в Петербурге, затем герой едет в Псковскую губернию, в деревню дяди. Оттуда действие переносится в Москву, куда героиня отправляется «на ярмарку невест», с тем чтобы в дальнейшем переехать с мужем в его петербургский дом. Онегин за это время совершает поездку по маршруту Москва — Нижний Новгород — Астрахань — Военно-Грузинская дорога и Закавказье (?) — северокавказские минеральные источники — Крым — Одесса — Петербург. Чувство пространства, расстояний, сочетание дома и дороги, домашнего, устойчивого и дорожного, подвижного быта составляют важную часть внутреннего мира пушкинского романа. Существенным элементом пространственного чувства человека является способ и скорость его передвижения. Тютчев, впервые проехав по Европе по железной дороге, отметил, что пространство сжалось, промежутки между городами сократились, а города сблизились: «Можно переноситься к одним, не расставаясь с другими. Города подают друг другу руку» («Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, с. 20). Именно малые (для нас) скорости и длительность передвижений связывали образ России с темой дороги, что так характерно для литературы пушкинского и гоголевского периодов.
Карета — основное средство передвижения в XVIII — начале XIX вв. — являлась и мерилом социального достоинства.
Все оттенки «почтовых» значений были понятны читателям EO.
В первой главе Онегин спешит на бал «в ямской карете» (XXVII, 3). Содержать своего кучера и собственную карету с лошадьми в Петербурге было дорого. В 1830-е гг. — отец и муж, известный литератор, вынужденный светским положением к частым выездам — Пушкин не держал лошадей, а имел только карету. Лошадей нанимали. Четверка приходилась для разъезда по городу по 300 руб. в месяц (в 1836 году). Извозчикам или кучерам платили отдельно. «Последнюю карету поставил Пушкину в июне 1836 года мастер Дриттенпрейс за 4150 руб. (с городским и дорожным прибором)» (Щеголев П. Пушкин и мужики. M., 1928, с. 172). Не имея собственного выезда, Онегин нанимал ямскую карету. Такую карету можно было взять на извозчичьей бирже на день. «Не таков (как «Ванюшка») извозчик-лихач. Не кочует он по улицам порожняком, не выезжает на промысел ни свет ни заря, не морит себя, стоя до полуночи из-за гривенника <…> седоки лихача показываются не ранее полудня» (Кокорев И. Т. Извозчики-лихачи и ваньки. — В кн.: Кокорев И. Т. Русские очерки, т. I. M., 1956, с. 357).
Способ передвижения соответствовал общественному положению. Начало этому было положено петровской Табелью о рангах, которая требовала «чтоб каждый такой наряд, экипаж <…> имел, как чин и характер его требует» (Памятники русского права, вып. VIII. М., 1961, с. 190; характер — зд.: положение). Разница в экипажах, количестве и цене лошадей и в пушкинскую эпоху образовывала сложную иерархию, имевшую социально-знаковый характер:
Пустилися к нему купцы на бегунах,
Художники <ремесленники. — Ю. Л.> пешком, приказные в санях,
Особы классные в каретах и колясках
И на извозчиках различны лица…
(Шаховской А. А.
Комедии, стихотворения. Л., 1961, с. 111)
Стремглав <…> поскакал (I, XXVII, 3–4) — в допетровской Руси признаком важности пассажира была медленная езда. В послепетровском обществе знаками достоинства сделались и слишком быстрая (признак «государственного» человека), и слишком медленная езда (признак вельможества). В Москве ездили медленнее, чем в Петербурге. Однако еще в XVIII веке установилась общеевропейская «щегольская» мода очень быстрой езды по людным улицам города.
Количество фонарей (один или два) или факелов зависело от важности седока. В 1820-е гг. «двойные фонари» (I, XXVII, 7) — это признак лишь дорогой, щегольской кареты.
Летя в пыли на почтовых (I, II, 2);…Ларина тащилась, Боясь прогонов дорогих, Не на почтовых, на своих… (VII, XXXV, 9-11). Езда для путешественников, пользующихся казенными лошадьми (езда «на почтовых» или «перекладных»), осуществлялась следующим образом: путешественник запасался подорожной — документом, куда вносился его маршрут, чин, звание (от этого зависело количество лошадей; неслуживший Онегин, как и П, — чиновник 13-го класса, имел право лишь на трех лошадей; особы 1-го класса имели право на 20, 2-го — на 15, а 3-го — на 12 лошадей). Подорожная регистрировалась на заставах; данные о выехавших или въехавших в столицы публиковались в газетах. На почтовых станциях фельдъегери и курьеры получали лошадей вне очереди (для них должны были иметься специальные тройки), но, если курьерские лошади были в разгоне, забирали любых, бывших в наличии, затем лошадей получали путешественники «по собственной надобности» в порядке чинов. Это приводило к тому, что обычному путешественнику часто приходилось просиживать на станциях долгое время (См. стихотворение Вяземского «Станция»).
Обычная скорость для едущих «по своей надобности» была: зимой не более 12 верст в час, летом — не более 10, а осенью — 8. В сутки обычно проезжали 70-100 верст. На станции проезжающий «платил прогоны» — оплачивал лошадей по таксе, которая колебалась от 8 до 10 коп. за одну лошадь на одну версту.
Ларины ехали в Москву «на своих» (или «долгих»). В этих случаях лошадей на станциях не меняли, а давали им отдохнуть, ночью тоже, естественно, не двигались с места (ночная езда была обычной при гоньбе перекладных), от чего скорость путешествия резко уменьшалась. Однако одновременно уменьшалась и стоимость.
«Наконец день выезда наступил. Это было после крещенья. На дорогу нажарили телятины, гуся, индейку, утку, испекли пирог с курицею, пирожков с фаршем и вареных лепешек, сдобных калачиков, в которые были запечены яйца цельные совсем с скорлупою. Стоило разломить тесто, вынуть яичко и кушай его с калачиком на здоровье. Особый большой ящик назначался для харчевого запаса. Для чайного и столового приборов был изготовлен погребец. Там было все: и жестяные тарелки для стола, ножи, вилки, ложки и столовые и чайные чашки, перечница, горчичница, водка, соль, уксус, чай, сахар, салфетки и проч. Кроме погребца и ящика для харчей, был еще ящик для дорожного складного самовара <…> Для обороны от разбойников, об которых предания были еще свежи, особенно при неизбежном переезде через страшные леса муромские, были взяты с собой два ружья, пара пистолетов, а из холодного оружия — сабля <…> Поезд наш состоял из трех кибиток. В первой сидели я, брат и отец, во второй тетушка с сестрою, в третьей повар с горничными девушками и со всеми запасами для стола: провизиею, кастрюлями и проч., и, наконец, сзади всех ехали сани с овсом для продовольствия в дороге лошадей. Это был обычный порядок путешествия наших <…> Разумеется такие путешествия обходились недорого, так что 20 или много 25 рублей ассигнациями, менее 7 рублей нынешним серебром, на 4-х тройках достаточно было доехать до Нижнего — это от нас около 500 верст, а может и более» (Селиванов, с. 145–147). Хозяйственная мать Татьяны, страшившаяся «прогонов дорогих», видимо, понесла такие же расходы.
Представления о размерах «поездки» при езде «на долгих» дает С. Т. Аксаков: «Мы едем-с в трех каретах, в двух колясках и в двадцати повозках; всего двадцать пять экипажей-с; господ и служителей находятся двадцать две персоны; до сотни берем лошадей» (Аксаков С. Т. Собр. соч. М., 1955, с. 423). Хозяйственная Ларина путешествовала, видимо, несколько скромнее.
При плохом состоянии дорог поломка экипажей и починка их на скорую руку с помощью «сельских циклопов», благословлявших «колеи и рвы отеческой земли» (VII, XXXIV, 13–14), делалась обычной деталью дорожного быта. «Коляска моя была куплена у великого Фребелиуса, знаменитейшего из петербургских каретных мастеров, которые одни умеют приготовлять оси, рессоры и подтяжные ремни, способные выдерживать в продолжение недели всякого рода удары, толчки и подпрыгивания на русских дорогах <…> «Наши Русские дороги, сказал мне один очень любезный житель Петербурга, коверкают в сорок восемь часов экипажи французские, английские и венские, но щадят наши национальные экипажи в течение восьми дней нашей беспримерной скачки — а это много». В силу этого предвещания, я и ожидал на восьмой день какой-нибудь беды. Она не заставила ждать себя: произведение «великого» Фребелиуса, моя петербургская коляска сломалась перед самой станцией, к которой я подъехал уже в наклонном положении». (Поль де-Бургоэн. Воспоминания французского дипломата при С.-Петербургском дворе. 1828–1831 гг. — Военный сборник, т. 48. СПб., 1866, с. 190).
В 1820-е годы начали входить в употребление также дилижансы — общественные кареты, ходящие по расписанию. Первая компания дилижансов, ходивших между Петербургом и Москвою, была организована в 1820 г. вельможами М. С. Воронцовым и А. С. Меньшиковым не только из коммерческих, но из либерально-цивилизаторских побуждений. Начинание имело успех; Меньшиков 27 февраля 1821 г. писал Воронцову: «Наши дилижансы в самом цветущем ходу, охотников много, отправление исправное» (цит. по кн.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.-Л., 1936, с. 444). Дилижансы брали зимой по 4 пассажира, летом — 6 и имели места внутри кареты, которые стоили по 100 р., и снаружи (60–75 р.). Путь из Петербурга в Москву они проделывали в 4–4,5 суток.
Однако основным средством передвижения все же оставались карета, бричка, возок, телега; зимой — сани.
Примечания:
1 См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 144–149.
2 См. список сокращений
7 По манифесту 20 июня 1810 г. серебряный рубль равнялся 4 руб. ассигнациями, т. е. речь шла о 4000000 руб. ассигнациями.
8 Л. Н. Киселева, проверившая биографии всех современников П, родившихся в интервале между 1794 и 1798 гг., по справочнику Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (всего 137 биографий, охватывающих круг реальных жизненных наблюдений автора EO), установила, что среди них нет ни одного человека, который бы никогда не служил и не имел никакого чина. Подавляющее большинство из них учились в различных учебных заведениях, а не ограничивались только домашним образованием. Пользуюсь случаем поблагодарить Л. Н. Киселеву, любезно поделившуюся со мной результатами своих разысканий.
9 Радклиф (Рэдклифф) Анна (1764–1823), английская романистка, одна из основательниц «готического» романа тайн, автор популярного романа «Удольфские тайны» (1794). В «Дубровском» П назвал героиню «пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф», (VIII, 1, 195). Дюкре-Дюмениль (правильно: Дюминиль) Франсуа (1761–1819) — французский сентиментальный писатель; Жанлис Фелиситэ (1746–1830) — французская писательница, автор нравоучительных романов. Творчество двух последних активно пропагандировалось в начале XIX в. Карамзиным.
10 Ранние браки, бывшие в крестьянском быту нормой, в конце XVIII века нередки были и для не затронутого европеизацией провинциального дворянского быта. А. Е. Лабзина была выдана замуж, едва ей минуло 13 лет (См.: Воспоминания А. Е. Лабзиной. СПб., 1914, с. X, 20); мать Гоголя, Марья Ивановна, пишет в своих записках: «Когда мне минуло четырнадцать лет, нас перевенчали в местечке Яресках; потом муж мой уехал, а я осталась у тетки, оттого, что еще была слишком молода. <…> Но в начале ноября он стал просить родителей отдать меня ему, говоря, что не может более жить без меня» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. I. M., 1892, с. 43); отец «в 1781 г. вступил в брак» с «Мариею Гавриловною, которой тогда было едва 15 лет от роду» (Миркович, с. 2)
Проникновение романтических представлений в быт и европеизация жизни провинциального дворянства сдвинули возраст невесты до 17–19 лет. Когда красавице Александрине Корсаковой перевалило за двадцать, старик Н. Вяземский, отговаривая от женитьбы влюбившегося в нее сына, А. Н. Вяземского, называл ее «старой девкой, привередницей, каких мало» (Рассказы Бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, зап. и собр. ее внуком Д. Благово. СПб., 1885, с. 439).
11 Мысль об Отечественной войне 1812 г. и связанных с нею бедствиях, как о времени морального очищения, соединяется для М. А. Волковой с представлением о неизбежности коренных перемен в жизни после войны: «…больно видеть, что злодеи вроде Балашова и Аракчеева продают такой прекрасный народ! Но уверяю тебя, что ежели сих последних ненавидят в Петербурге так же, как и в Москве, то им не сдобровать впоследствии» (письмо от 15 августа 1812 г. — цит. соч., с. 253–254).
12 Н. Раевский в книге «Портреты заговорили» (Алма-Ата, 1974, с. 277–281 и 292–312) считает, что в основу описания в «Пиковой даме» положен план дома Салтыкова на набережной Невы, в котором в 1830-е гг. жил австрийский посол Ш.-Л. Фикельмон (сейчас Дворцовая наб. д. 4). Следует учитывать, однако, типовой характер планировки петербургских особняков XVIII века.
13 Воспитанный во Флоренции и приехавший в 1812 году в Москву М. Д. Бутурлин писал: «На меня, привыкшего к постройкам европейских городов с сплошными и высокими их домами, Москва сделала первоначально странное впечатление с ее отдельными и двухэтажными, обыкновенно, домами, и одноэтажными домиками с палисадником пред ним, как бы в деревне, и с деревянными заборами между домами» (Бутурлин, с. 181).
14 Ср. анекдот, записанный П. А. Вяземским: «В холодный зимний день, при резком ветре, Александр Павлович встречает г-жу Д***, гуляющую по Английской набережной. «Как это не боитесь вы холода?» — спрашивает он ее. — «А вы, государь?» — «О, я — это Дело другое: я солдат». — «Как! Помилуйте, ваше величество, как! Будто вы солдат?» (Вяземский, Старая записная книжка, с. 165–166).
15 Название Невского проспекта «бульваром» представляло собой жаргонизм из языка петербургского щеголя, поскольку являлось перенесением названия модного места гуляний в Париже (ср.: «…после обеда все пойдем в Тюллери или на Булевар…» — Волков Д. Воспитание. — Российский феатр, т. XXI. СПб., 1788, с. 120; «Спектакли там <в Париже. — Ю. Л.> везде и jusques на Булеваре!» — Хвостов Д. Русский парижанец. — Российский феатр, т. XV. СПб., 1787, с. 180). Ср. для средних веков аналогичные уподобления типа «Новый Иерусалим» под Москвой или название «Бродвей» («Брод») для Невского проспекта между Литейным и Садовой в более позднее время.
16 Б. Иванов, автор романа «Даль свободного романа», заставил Онегина гулять по Биржевой набережной между кипами товаров и прямо на улице поедать устриц из только что открытой голландцем бочки, запивая их портером (Иванов Б. Даль свободного романа. М.-Л., 1959, с. 106–110). Вся эта нелепая сцена непосредственно списана из книги М. И. Пыляева «Старый Петербург» (СПб., 1909, с. 419). Однако Пыляев, говоря о «всеобщем сходбище» и о том, что «прибытие первого иностранного корабля» составляло «эпоху в жизни петербуржца», не уточняет, какого круга и общественного положения люди «пресыщались устрицами» под открытым небом. Конечно, решительно невозможно представить себе светского человека 1810-х гг., воспитанника аббата-эмигранта, жующим на улице в обществе ремесленников и запивающим еду портером. Если что-либо в этом роде и возможно было как шалость с друзьями после разгульной ночи, то считать это регулярным времяпровождением (ивановский Евгений еще хвастается им вечером в кругу светских дам!) — приблизительно то же самое, что считать, что Пьер Безухов, проснувшись утром, деловито отправлялся купать квартального, привязав его к медведю, а вечером рассказывал об этом в кругу восторженных дам. Комбинируя отрывки из разных источников, Б. Иванов не обнаруживает, однако, понимания изображаемого им времени. К сожалению, надерганные им поверхностные сведения выдаются иногда за «знание быта пушкинской эпохи» (См. сб. Русская литература в историко-функциональном освещении. М. 1979, с. 294).
17 М. А. Нарышкина — любовница, а не жена императора, поэтому не /iможет открывать бал в первой паре, у П же «Лалла-Рук» идет в первой паре с Александром I.
18 Ср. в «Герое нашего времени»: «Мы давно уж вас ожидаем», — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят».
Смысл эпизода в следующем: драгунский капитан, убежденный, что Печорин «первый трус», косвенно обвиняет его в желании, опоздав, сорвать дуэль.
19 Напомним правило дуэли: «Стрелять в воздух имеет только право противник, стреляющий вторым. Противник, выстреливший первым в воздух, если его противник не ответил на выстрел или также выстрелил в воздух, считается уклонившимся от дуэли…» (Дурасов, ук. соч., с. 104). Правило это связано с тем, что выстрел в воздух первого из противников морально обязывает второго к великодушию, узурпируя его право самому определять свое поведение чести.
20 Так назывался поединок, в котором после противников стрелялись их секунданты.
21 Бывали и более жестокие условия. Так, Чернов, мстя за честь сестры, требовал поединка на расстоянии в три (!) шага. В предсмертной записке (дошла в копии рукой А. Бестужева) он писал: «Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное; ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества и человечества» (Сб. Девятнадцатый век, кн. I. M., 1872, с. 334). По настоянию секундантов дуэль происходила на расстоянии в восемь шагов, и все равно оба участника ее погибли.
Скачать Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин»
КОММЕНТАРИЙ Ю.М. Лотмана
Читать по теме:
- Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин»
- Пушкин Александр Сергеевич «Капитанская дочка»
- Пушкин Александр Сергеевич «Дубровский»



Я в полном восторге!
Спасибо за высокую оценку!
На самом деле — небольшая подборка справочного материала к Вашим работам о Немезиде и Дон Жуану.
Читая, не могла избавиться от ощущения, что систематизация материала — на уровне филологической докторской, никак не ниже, намного выше. Но технарский системный подход позволяет переосмыслить этот огромный исторический пласт, понять, наконец, что же на самом деле скрывается за «деяниями великих людей», кем на самом деле были эти люди — с их ошибками и заблуждениями.
Это на самом деле — просто великолепно. Тот самый замечательный подход, когда высказанная мысль развивается и обрастает историческими реалиями. Причем, в новом свете предстает и то, что пытались сказать об античности наши современники!
Вот как раз такой подход я готова двумя руками отнести к «единомыслию без плагиата» (с. Вассерман, за точность цитирования этого плагиатора не ручаюсь).
Еще раз спасибо.
А еще спасибо преподавателям (и Вам в том числе), которые ставят технарский системный подход студентам, не зависимо от желания последних.
Очередное блестящее выступление. Мы привыкли к оценке Александра Македонского в исключительно положительном ключе. Причем, стоит обратить внимание на главный мотив апологетики — принес мол эллинистическую высокую культуру неразвитым народам. Ну как сейчас демократию несут. В свете планов наследников монетарной Греции в отношении нынешней традиционной Персии — очень актуально.
Да уж! Почти «что было, то и будет …»
Отличный разбор полетов!
Спасибо!
Natali, мне было интересно. Я не технарь, поэтому немножко заблудилась в терминах, пардон именах, причинно-следственных связях. Но после последнего комментария поняла, это не мой уровень, не могу объять необъятного. Пришлось перечитывать, так как видит око, а зуб неймёт. Ты так сказочно богата своими знаниями и так легко и увлекательно делишься ими… Можно я буду тобой гордиться?
Прошу прощения за блуждания. Это — авторские недоработки. Сама слишком увлеклась темой.
В разных источниках одни и те же персонажи проходят под разными именами. Таис Афинская — это Фаида. Извините, что не указала в тексте.
Сказочные богатства знаний нынче предоставляет интернет. До очень большого объема информации можно сейчас добраться «легко и непринужденно».Технологии! 🙂
Позвольте с Вами не согласиться! До объема информации можно добраться и в нем разобраться только тогда, когда знаешь куда и как идти, а Ваши блуждания имели совершенно определенную цель, к которой Вы привели даже неискушенного читателя. Нечего скромничать по своей технарской привычке. Технарь — это звучит городо!!!
Ваши рассуждения до боли напоминают речи наших преподавателей, которые убеждали нас учиться, а наглые студенты в ответ убеждали, что учить не надо, можно будет потом в справочнике посмотреть. 🙂
Преподаватели, конечно же, были правы …
Большое спасибо! Очень интересно!
Рада слышать.