 «Христос и Антихрист» — трилогия Дмитрия Мережковского, в которую вошли три романа: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) и «Антихрист. Пётр и Алексей» (1904—1905). Автор рассматривал все три романа как единое целое — «не ряд книг, а одна, издаваемая для удобства только в нескольких частях. Одна об одном»[1].
«Христос и Антихрист» — трилогия Дмитрия Мережковского, в которую вошли три романа: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) и «Антихрист. Пётр и Алексей» (1904—1905). Автор рассматривал все три романа как единое целое — «не ряд книг, а одна, издаваемая для удобства только в нескольких частях. Одна об одном»[1].
В начале 1890 года, незадолго до начала работы над романом «Смерть Богов. Юлиан Отступник», у Мережковского, по воспоминаниям Зинаиды Гиппиус, произошли резкие изменения в мировоззрении. «…Все работы Дмитрия Сергеевича, отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны — плоский материализм старой интеллигенции… все это вместе взятое, да, конечно, с тем зерном, которое лежало в самой природе Д. С., — не могло не привести его к религии и к христианству»[2], — писала она. Это было скептически встречено его недавними единомышленниками. «Мережковский делается все скучней и скучней — он не может ни гулять, ни есть, ни пить без того, чтобы не разглагольствовать о бессмертии души и о разных других столь же выспренних предметах», — замечал критик Алексей Плещеев в письме к издателю Алексею Суворину от 16 февраля 1891 года.
Предшествовал переоценке духовных ценностей «жанровый кризис»: выпустив три поэтических сборника, третий из которых, «Новые стихотворения» (1896), был совсем небольшим по объёму и исключительно философским по содержанию, Мережковский, как сам он говорил, стал утрачивать к поэзии интерес. Переходный характер имела серия переводов древнегреческой драматургии. Работы публиковались с трудом: они были (как заметил один из редакторов по поводу «Скованного Прометея», переведенного в 1891 году) «слишком ярким классическим цветком на тусклом поле современной русской беллетристики». На естественный вопрос изумлённого автора редактор пояснил: «Помилуйте, мы в общественной хронике все время боремся против классической системы воспитания, и вдруг целая трагедия Эсхила!…»[2]
Как отмечает биограф Юрий Зобнин, до сих пор нет ясного ответа на вопрос, почему именно Мережковского заинтересовала эпоха, «почти невозможная, невиданная в тематике отечественной словесности, — Византия, IV век по Рождеству Христову»; предполагается, что способствовали тому именно греческие переводческие «штудии»[2].
Основные идеи трилогии
В романах трилогии писатель выразил свою философию истории и взгляд на будущее человечества[3], сформулировал основные идеи, легшие в основу «нового религиозного сознания» и церкви «Третьего завета»[4].
Все три романа трилогии «Христос и Антихрист» были объединены главной идеей: борьбой и слиянием двух принципов, языческого и христианского, призывом к утверждению нового христианства, где «земля небесная, а небо земное».[5]. В истории человеческой культуры, считал Мережковский, уже предпринимались попытки синтеза «земной» и «небесной» правд, но они оказались неудачными в силу незрелости человеческого общества. Именно в будущем соединении этих двух правд — «полнота религиозной истины»[6], — считал Мережковский. Трилогия Мережковского (согласно Корнею Чуковскому) была написана для того, чтобы обнаружить «бездну верхнюю» и «бездну нижнюю», «Богочеловека» и «Человекобога», «Христа» и «Антихриста», «Землю и Небо», слитыми в одной душе, «претворившимися в ней в единую, цельную, нерасточимую мораль, в единую правду, в единое добро».[7]
Позднее Мережковский писал:
Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе <…> Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению — таков мой путь, — и спутник-читатель, если он мне равен в главном — в свободе исканий, — придет к той же истине…[1]
История создания
Первый роман трилогии, «Смерть богов. Юлиан Отступник», был опубликован в 1895 году в журнале «Северный вестник». История жизни апологета язычества римского императора IV в. Юлиана, перед лицом наступающего христианства пытавшегося повернуть историю вспять и возродить реформированное язычество под знаком культа Солнца[8], многими критиками рассматривается как наиболее сильное художественное произведение доэмигрантского периода творчества Мережковского.
Далее последовал роман «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», печатавшийся в журнал «Мир божий» (1900) и вышедший отдельным изданием в 1901 году.
Третий роман трилогии, «Антихрист. Пётр и Алексей» (1904—1905), был написан уже после закрытия Собраний и напечатан в 1904 году в журнале «Новый путь» (в отдельном издании в 1905 года — «Антихрист. Пётр и Алексей»; все три части переизданы в Берлине в 1922 году). Здесь Пётр Первый был изображён «воплощённым антихристом»[8], носителем веры представал царевич Алексей.[8][8]
Герои всех трёх произведений (согласно биографии Вадима Полонского) «под масками исторических деятелей» воплощают почти «космическую» борьбу вечно противостоящих в истории универсальных начал — тех же языческой, «антихристовой» бездны плоти и «христовой» «бездны духа», «извращённой» (по мнению автора) аскетизмом исторического христианства[4]. В ходе работы над трилогией Мережковский, как отмечалось, выработал особый тип «романной поэтики», техники его построения, особый упор сделав на символических лейтмотивах и игре цитатами, перемешав реальные исторические источники и собственные стилизации под таковые[4].
Критика
Трилогия была неоднозначно оценена критикой и современными Мережковскому писателями и философами. Отмечалась, например, подчинённость прозы писателя определённым, заранее заданным идеям и схемам.[9] Николай Бердяев предположил, что Мережковский «…стремится синтезировать Христа и антихриста». Сам писатель отчасти соглашался с такой оценкой. Он признавался, что надеялся, соединив два начала христианства и язычества получить «полноту жизни», а заканчивая трилогию, уже отчётливо «осознавал, что… соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь».[10]
Позже Бердяев, критикуя концепцию Мережковского в целом, писал:
В антихриста он верит более, чем в Христа, и без антихриста не может шагу ступить. Всюду открывает он антихристов дух и антихристов лик. Злоупотребление антихристом — один из основных грехов Мережковского. От этого антихрист перестает быть страшен. — «Новое христианство (Д. С. Мережковский)»[11]
Корней Чуковский, отдавая должное автору-культуроведу («…Д. С. Мережковский любит культуру, как никто никогда не любил её»), уточнял: это, прежде всего, — культура как «жизнь вещей», жизнь «всяческих книг, картин, лоскутков».[7] По мнению Чуковского, в трилогии «…нет ни Юлиана, ни Леонардо да Винчи, ни Петра, а есть вещи, вещи и вещи, множество вещей, спорящих между собою, дерущихся, примиряющихся, вспоминающих старые обиды через десять веков и окончательно загромоздивших собою всякое живое существо».[7]
Согласно замечанию русского философа Николая Лосского идея двух бездн Мережковского «истолкованная в духе некоторых представителей гностицизма, ведет к дьявольскому искушению поверить в то, что существует два пути совершенства и святости — один путь обуздания страстей и другой путь, напротив, предоставления им полного простора»[12]. Позже Мережковский утверждал опасность двусмысленного истолкования идеи: «Я знаю, — говорил он, — что мой вопрос содержит опасность ереси, которая могла бы в отличие от аскетизма получить название ереси астаркизма…».[12]
Историческое значение
Стилистика прозы Мережковского, способствовавшая удачным переводам, способствовала росту популярности писателя на Западе. В начале века в Европе (как отмечает Полонский) «его имя произносилось среди первых литераторов эпохи на равных с именем Чехова». В Daily Telegraph (1904) Мережковский был назван «достойным наследником Толстого и Достоевского».[4]
Трилогия была очень популярной в Германии; в частности, оказала влияние на творчество немецкого поэта-экспрессиониста Георга Гейма. Позже критики отмечали, что в своей трилогии Мережковский «дал литературе модернизма образец романного цикла как особой повествовательной формы и способствовал становлению того типа экспериментального романа, который отзовется в лучших произведениях Андрея Белого, Алексея Ремизова, а в Европе — Джеймса Джойса и Томаса Манна».[4] Именно трилогия «Христос и Антихрист» обеспечила писателю особое место в истории русской литературы: Мережковский вошёл в неё прежде всего как создатель нового типа исторического романа, особой вариации мировоззренческого «романа мысли».[4]
Как отмечала исследовательница литературы Зара Минц, трилогия, произведшая «странное впечатление» на современников, была мало похожа на русский исторический роман XIX века. Новыми были трактовки главных героев, и общая концепция, и сюжетное построение. В европейской художественной литературе Минц обнаружила лишь одно произведение, имющее общие черты с трилогией: «мировую драму» Генрика Ибсена «Кесарь и Галилеянин» (1873).[13]
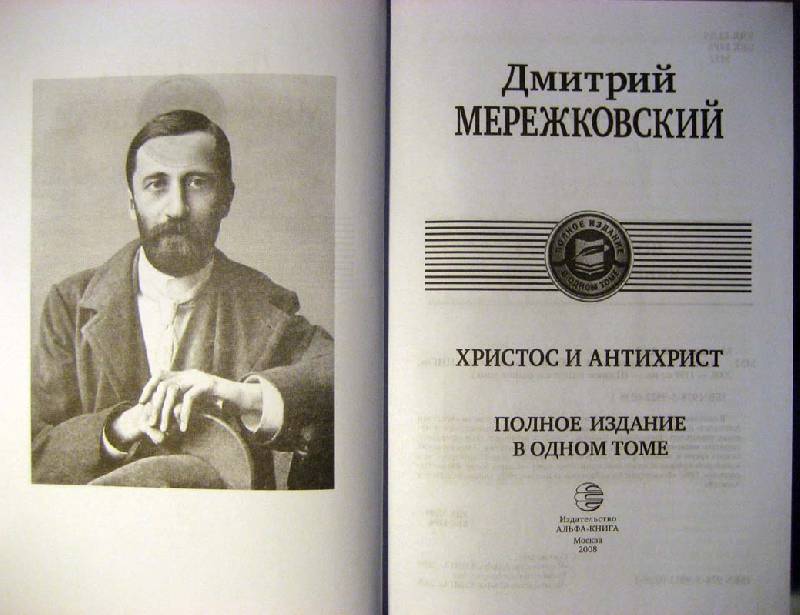
Читать Дмитрий Мережковский — Трилогия «Христос и Антихрист»
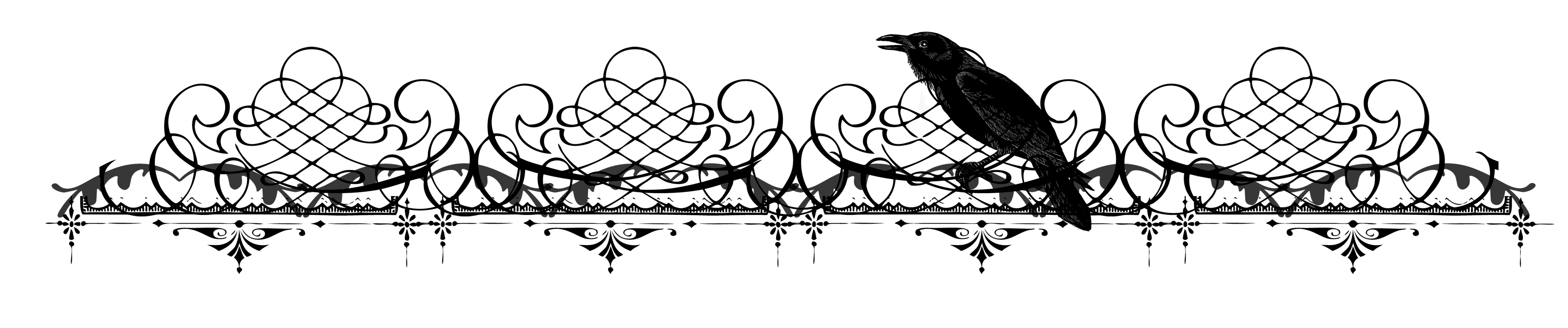

«Смерть богов. Юлиан Отступник» — роман Д. С. Мережковского, впервые опубликованный в 1895 году на страницах журнала «Северный вестник» (под заголовком «Отверженный») и ставший первым в трилогии «Христос и Антихрист». В центре повествования — история жизни римского императора IV века Флавия Клавдия Юлиана, перед лицом наступающего христианства пытавшегося «возродить реформированное язычество под знаком культа Солнца»[1]. Роман, посвящённый противопоставлению «двух правд» — христианской (аскетической) и языческой (плотской) и двух «бездн»: небесной и земной (царство Бога, царство «Зверя»), — заложил основу религиозно—философской концепции Мережковского[2], по-своему развивавшей и исследовавшей идеи Третьего Завета[3].
Первый роман трилогии принёс автору известность, причём, прежде всего, европейскую. Литературный критик О. Михайлов отмечал «великолепное знание истории, её красочных реалий и подробностей, драматизм характеров, остроту конфликта», которые позволили Мережковскому «создать повествование незаурядной художественной силы»[4].
История создания
Д. С. Мережковский начал работу над романом «Юлиан Отступник» летом 1890 года. Важнейшее значение для успешного завершения этого кропотливого, поначалу, в основном, «кабинетного» труда имела (предпринятая на с трудом собранные средства) поездка Мережковских в Европу в 1892 году, с возвращением в Россию морем — через Грецию (Афины) и Турцию (Константинополь) — в Одессу. Поначалу «древняя земля Эллады» разочаровала писателя, который описывал позже «довольно противные лица туземцев, пыль, вонь» и жару, — Азию, но не «…настоящую дикую Азию, а… полукультурную, то есть самую неинтересную». Всё переменилось, когда он увидел священный холм Акрополя.
Я взглянул, увидел все сразу и сразу понял — скалы Акрополя, Парфенон, Пропилеи, и почувствовал то, чего не забуду до самой смерти. В душу хлынула радость того великого освобождения от жизни, которое дает красота. Смешной заботы о деньгах, невыносимой жары, утомления от путешествия, современного, пошленького скептицизма — всего этого как не бывало. И — растерянный, полубезумный — я повторял: «Господи, да что же это такое»[5].
Писатель описывал состояние, близкое к дежавю: «…И странно: как во всех очень важных, единственных обстоятельствах жизни, мне казалось, что я все это уже где-то и когда-то, очень давно, видел и пережил, только не в книгах. Я смотрел и вспоминал. Все было родным и знакомым». Описывая Парфенон, Мережковский противопоставляет его Колизею:
Голубое небо, голубое море и белый мрамор, и солнце, и клекот хищных птиц в полдневной высоте, и шелест сухого, колючего терновника. И что-то строгое и сурово божественное в запустении, но ничего печального, ни следа того уныния, чувства смерти, которое овладевает в кирпичных подземельях палатинского дворца Нерона, в развалинах Колизея. Там — мертвое величие низвергнутой власти. Здесь — живая, вечная красота. Только здесь, первый раз в жизни, я понял, что такое — красота. Я ни о чем не думал, ничего не желал, я не плакал, не радовался, — я был спокоен[5].
По завершении путешествия супруги окунулись в почти уже привычный для них мир полунищенского существования. «Теперь мы в ужасном, небывалом положении. Мы живем буквально впроголодь вот уже несколько дней и заложили обручальные кольца», — сообщала Гиппиус в одном из писем 1894 года (в одном из следующих замечая, что не может пить прописанный врачами кефир, — нет денег)[5].
Публикация
Произведение (согласно биографии Д. М. Магомедовой) стало первым в ряду постоянно «отвергаемых, притесняемых цензурой или конфискованных полицией сочинений Мережковского»[6]. По воспоминаниям З. Н. Гиппиус, «когда „Юлиан Отступник“ был кончен, приюта ему не оказалось ни в одном русском журнале».
В 1895 году роман (как считалось, «из милости») напечатал «Северный вестник», но и здесь был встречен пренебрежительно. По воспоминаниям Гиппиус, критик А. Л. Волынский «… пришел <к Мережковским> с рукописью, которую брал читать, и почти грубо (может быть, он просто держать себя не умел?) указывал на отмеченные куски: „Это — вон! Вот это тоже вон!“ Чем он свои „вон“ мотивировал — совершенно не помню»[6]. В результате роман «Юлиан Отступник», первый в трилогии, появился в «Северном вестнике» в урезанном и местами в искаженном виде.
Мережковский, к которому прочно приклеились модные тогда ярлыки «декадент» и «упадник», смог донести своё произведение до массового читателя, в основном, благодаря поддержке председателя Литературного фонда, одной из самых влиятельных писательских организаций того времени, П. И. Вейнберга, который стал приглашать на свои «вечера» Мережковских. «Надо знать тогдашнюю атмосферу, тогдашнюю публику, „старую“ молодежь, чтобы понять, что со стороны Вейнберга это была действительно дерзость. Примешивая к старикам более молодых, Вейнберг приучал к ним, мало-помалу, публику», — писала З.Гиппиус. Вейнберг был одним из немногих литераторов «старой школы», оценивших первый роман Мережковского. У себя на квартире он устроил чтение глав из «Юлиана», и это сыграло в судьбе романа существенную роль[5].
Содержание и основные идеи романа
Роман «Смерть богов. Юлиан Отступник» вводит читателя в мир напряженной борьбы христианства и язычества — в эпоху римского императора Юлиана II Отступника (331—363), пытавшегося в годы своего правления (361—363) восстановить культ богов-олимпийцев. Обречённая на провал попытка императора Юлиана восстановить в Восточной империи эллинское язычество, потеснённое (после миланского эдикта 313 года) христианством, принесла ему прозвище «Апостас» (или «Апостат»: отступник). Предсмертные слова Юлиана: «Ты победил, Галилеянин!» — стали историческим афоризмом.
Как отмечает З. Г. Минц, христианство «в его высших проявлениях, раскрыто в романе как религия абсолютного Добра, на земле не достижимого и от земного отрекающегося», олицетворяемая «непорочной прелестью» умирающей девочки Мирры[7]. Но христиане отвергают реальный мир: они аскетичны и «чужды всему человеческому». В ответ на страстные богохульные проклятия матери юноши-христианина Ювентина: «Будьте прокляты, отнимающие детей у матери… слуги Распятого, ненавидящие жизнь, разрушители всего, что в мире есть святого и великого!» — звучат слова старца Дидима: учеником Христа может стать лишь возненавидевший «отца и мать свою, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и самую жизнь свою». Христос и жизнь, по Мережковскому, непримиримы[7]
Мережковский (согласно О. Михайлову) сочувствует своему герою; христианство предстает в романе не утверждением высших принципов духовности, а «…победой злой воли слепой и темной в своем опьянении вседозволенностью толпы». Вера в Спасителя — это религия социальных низов, религия бедных, и в народном восприятии Юлиан предстает не просто Отступником, но Антихристом[4].
Впоследствии отмечалось, что духовные искания Юлиана были во многом созвучны идеям, которыми на рубеже 1880-1890-х годов увлёкся Мережковский. Император (во всяком случае, в романе), признавая «высокую духовную красоту христианской проповеди», не может принять её, поскольку практическое воплощение заповедей представляется ему отрицанием чувственности и вообще представления о человечности, сформировавшейся в эллинской культуре.
Трагизм его положения в том, что любой из возможных вариантов выбора между «духовностью» христианства и «плотской» гармонией язычества, по совести, не может принести ему полного удовлетворения. Его идеал — синтез духа и плоти, такое состояние бытия, при котором плотская жизнь была бы одухотворена настолько, что духовные идеалы могли бы беспрепятственно воплощаться в повседневности[5].
В числе основных идей романа исследователи отмечали следующую: содержание человеческой жизни в истории — страдание, проистекающее от конфликта двух начал: «духовного» и «плотского». Они порождают две системы ценностей: всё, что любит «дух», отрицательно сказывается на «плоти», а все «плотское» ужасает «духовное». Попытки человека сотворить «рай на земле» тщетны: без помощи Творца человек он воистину не может «творить ничего»[5]. Решение дилеммы, которое Юлиан бесплодно пытался осуществить на практике (через идеал христианско-языческого синтеза), в каком-то смысле подсказывает ему подруга Арсиноя («…Какой ты враг Ему? Когда твои уста проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его. Когда ты борешься против имени Его, — ты ближе к духу Его, чем те, кто мертвыми устами повторяет: Господи, Господи! Вот кто твои враги, а не Он»)[5].
Автор романа признавал, что изначально слишком прямолинейно отнёсся к разработке основных идей, и что его взгляды на них в процессе работы над трилогией менялись:
Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе… Но теперь я также знаю, что мне надо было пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину[5].
Позже, как отмечали исследователи, «духовными близнецами» Юлиана в поисках гармонии «духа» и «плоти» «на земле, как на небе» стали все, без исключения, исторические персонажи Мережковского: Леонардо, Пётр I, Александр I, Рылеев, Пестель, Наполеон, Франциск Ассизский, Жанна д’Арк, Августин, Павел, фараон Эхнатон и другие[5].
Автобиографические мотивы
Некоторые исследователи отмечали, что в романе «Юлиан Отступник» в скрытой форме воплотились многие подавленные переживания детства Д. С. Мережковского. Известно, что он, с ранних лет обладавший способностью к искренней религиозной экзальтации, очень рано стал осознавать «разделение личной религиозности и официальной церковности». Одно из самых дорогих воспоминаний детства Мережковского — «темный угол с образом, с тихим светом лампадки и никогда не повторявшееся счастье детской молитвы». В то же время он, как сам вспоминал, «в церковь ходить… не очень любил: священники в пышных ризах казались мне страшными»[6].
Именно эти детские переживания, как считает Д. С. Магомедова, выразились в противопоставлении «страшного» образа Христа арианской церкви и Пастыря Доброго.
Достаточно вспомнить, как нагнетается тема страха при описании церковной службы, в которой участвует юный Юлиан: страшные изображения мучеников и грешников на стенах храма, калеки, бесноватые и юродивые в толпе молящихся, наводящие ужас слова Апокалипсиса и надо всем — «арианский образ Христа — грозный, темный, исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме». И лишь в одном углу храма, «в полумраке, где теплилась одна лишь лампада», — мраморный барельеф первых времен христианства и Христос — Пастырь Добрый. И с этим маленьким изображением иных времен для него связан был какой-то далекий, детский сон, который иногда хотел он вспомнить и не мог <…> И Юлиан шептал слово, слышанное от Мардония: «Галилеянин!» [6].
Отмечалось также, что в образности романа реализовалось другое яркое детское воспоминание писателя. В автобиографической заметке Мережковский вспоминал о том, какое впечатление произвёл на него дворец в Ореанде в Крыму («Белые мраморные колонны на морской синеве — для меня вечный символ древней Греции»). Этот мотив, как отмечает Д. Магомедова, «почти дословно повторяет описание храма Афродиты, которым любуется Юлиан в IV главе романа» («Белый мрамор ионических колонн, облитый солнцем, с негой купался в лазури; и темная, теплая лазурь радовалась, обнимая этот мрамор, холодный и белый как снег»)[6].
Персонажи романа
Главные герои
- Юлиан, римский император Юлиан II
- Галл, брат Юлиана
- Констанций, римский император Констанций II
- Арсиноя, дочь римского сенатора
- Мирра, сестра Арсинои
- Анатолий, друг Арсинои
- Аммиан Марцеллин, историк, друг Арсинои
- Ямвлик, философ-неоплатоник (Ямвлих)
- Максим Эфесский, философ-неоплатоник, последователь Ямвлиха
Другие персонажи
- Публий Оптатиан, поэт
- Олимпиодор, языческий жрец
- Амариллис, дочь Олимпиодора
- Марк Скудило, римский военный трибун
- Ногодарес, персидский бродячий астролог
- Гортензий, римский сенатор
- Василий из Назианза, христианский церковный деятель, прототип Василий Великий
- Григорий из Цезареи, христианский церковный деятель, прототип Григорий Богослов
- Орибазий, врач Александрийской школы
- Евтропий, арианский учитель богословия
- Мардоний, евнух, учитель греческой литературы
- Лампридий, учитель красноречия
- Мамертин, римский оратор, возможный прототип Клавдий Мамертин
- Иларий, пиктавийский епископ, прототип Иларий Пиктавийский
- Дидим, старец, прототип Дидим Слепец
- Арагарий, сармат на римской службе
- Стромбик, сириец на римской службе
Успех романа
Роман «Юлиан Отступник» заинтересовал как широкие круги читателей, так и литературную критику. Последняя, усмотрев в молодом писателе «ницшеанца», тем не менее, признавала достоинства первого символистского исторического романа: блестящее знание эпохи, неизвестной, виртуозное владение языком. Всё это (как замечает биограф Ю. Зобнин) выгодно отличало «Юлиана» «от исторической беллетристики той поры, ведущей своё начало от романов Данилевского».
Вскоре романом заинтересовались зарубежные издатели. Русская парижанка, горячая поклонница Мережковского, Зинаида Васильева в 1899 году перевела роман на французский и опубликовала его в «Journal des Debates» в 1900 году. Несколько месяцев спустя он вышел в Париже отдельным изданием, положив начало европейской славе Мережковского.
Критика
Современные Мережковскому критики обнаружили в романе отзвуки ницшеанства, проявившиеся, в частности, в нежелании считаться с заповедями традиционной, христианской морали.
Впоследствии эту мысль развил И. А. Ильин, пристрастно и очень последовательно проанализировавший романы Мережковского:
Ложное истинно. А истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот искренно верующая христианка — от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря — он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие — тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное… Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку — это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва — на колдовское заклинание. Христос — Митра. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение… Искусство это? Но тогда это искусство, попирающее все законы художественного. Религия это? Нет — это скорее безверие и безбожие[4].
Пленник культуры
(О Д. С. Мережковском и его романах)
вступительная статья
«Я родился 2-го августа 1865 г. в Петербурге, на Елагином острове, в одном из дворцовых зданий, где наша семья проводила лето на даче. До сих пор я люблю унылые болотистые рощи и пруды елагинского парка»».
«Помню, как мы забирались в темные подвалы дворца, где на влажных сводах блестели при свете огарка сталактиты, или на плоский зеленый купол того, же дворца, откуда видно взморье, а зимою мы жили в старом-престаром, еще петровских времен, Вауаровском доме, на углу Невы и Фонтанки, у Прачечного моста, против Летнего сада: с одной стороны — Летний дворец Петра 1, с другой — его же домик и древнейший в Петербурге деревянный троицкий собор».
Эти строки из «Автобиографической заметки» Мережковского можно было бы поставить эпиграфом к его историческим произведениям из русской жизни: роману «Петр и Алексей» (1906, из трилогии «Христос и Антихрист», драме для чтения «Павел 1» (1909), романам «Александр 1» (1911) и «14 декабря» (1918), составляющим вторую трилогию. Как видно, с детских лет он дышал воздухом старины, был окружен реалиями прошлого и даже его тенями, мог близко наблюдать быт русского Двора: отец писателя, Сергей Иванович, в течение всего царствования Александра ii занимал должность столоначальника в придворной конторе.
Идет лакей придворный по пятам Седой и чизной фрейлины-старушки… Здесь модные духи приезжих дам — И запах первых листьев на опушке, И разговор французский пополам С таинственным пророчеством кукушки, И смешанное с дымом папирос Вечернее дыханье бледных роз…- вспоминал писатель о впечатлениях своего детства и отрочества в поэме «Старинные октавы», которую жена Мережковского, поэт и критик з. Н. Гиппиус, недаром назвала впоследствии его луч- шей автобиографией.
..Д. Мережковский. Автобиографическая заметка.- кн. Русская литература XX в»». Под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. 1. М» IS15, стр. 2S3. Впрочем, сами Мережковские не могли похвастаться громкой родословной. Прадед писателя был войсковым старшиной на Украине, в городе Глухове, а дед лишь в царствование императора Павла i приехал в Петербург и поступил «младшим чином» в Измайловский полк. «Тогда-то, вероятно,- писал Дмитрий Сергеевич,- и переменил он свою малороссийскую фамилию Мережки на русскую — Мережковский». В жилах бабушки текла древняя кровь Курбских.
И все же происхождение, принадлежность к миру чиновничьей касты (отец закончил службу в чине действительного тайного советника, что соответствовало 2-му классу табели о рангах: выше был только канцлер), воспитание (3-я классическая гимназия, с ее зубрежкой и муштровкой) как будто бы не предполагали появления «бунтаря», разрушителя традиционных нравственных и эстетических канонов, одного из вождей нового направления в литературе — символизма, критика имперских и церковных устоев, книги которого арестовывались цензурой, а самого его едва не отлучили от официальной церкви.
Драма «отцов» и «детей» обозначилась рано. В многодетной, внешне благополучной семье Мережковский чувствовал себя одиноким и несчастным, боялся и не любил отца. «У меня не было школы, как не было семьи»,- скажет он позднее. Юному Мережковскому навсегда запомнилось столкновение Сергея Ивановича, потрясенного событиями 1 марта 1881 года — убийством «царя- освободителя» народовольцами, со старшим сыном Константином (будущим известным профессором зоологии и ботаники), который оправдывал «извергов». Эта тяжелая ссора, длившаяся несколько лет, в конечном итоге свела в могилу обожавшую детей мать.
Сумеречные фантазии и мечты, обуревавшие Мережковского- ребенка, были как бы дальним предвестием эсхатологических позднейших исканий, тяги к «бездне» и «мгле».
Познал я негу безотчетных грез, Познал и грусть,-чуть вышел из пеленок. Рождало все мучительный вопрос В душе моей; запуганный ребенок, Всегда один, в холодном доме рос Я без любви, угрюмый как волчонок, Боясь лица и голоса людей, Дичился братьев, бегал от гостей…
Но «бездна» и «мгла» заявят о себе позднее. Пробудившееся у Мережковского раннее влечение к литературе, к стихотворчеству прошло под солнечным знаком Пушкина (тринадцати лет написал он свое первое стихотворение в подражание «Бахчисарайскому» фонтану»). Детские опыты были откровенно слабы, и в памяти Мережковского на всю жизнь осталась фраза Достоевского, который выслушал их «с нетерпеливою досадой»:
— Слабо… плохо… никуда не годится… чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!
Однако книжный груз только накапливался с годами, хотя учителя и менялись. В университетские годы — Мережковский поступил в 1884 году на историко-филологический факультет Петербургского университета — он испытал сильнейшее влияние философов-позитивистов Канта, Милля, Спенсера. (Как вспоминает Гиппиус, Мережковский, познакомившись с ней, восемнадцатилетней девушкой, в 1888 году, в Боржоми, посоветовал ей читать Спен- сера.) Правда, учение позитивистов — стремление поставить умет- венный мир человечества на твердую основу науки через совершенное отрицание всяких теологических и метафизических идей — приходило в противоречие с религиозными идеалами, впитанными Мережковским с детства, рождало безысходные сомнения.
Уже с этого момента начинается раздвоение, характерное для личности и творчества писателя. Оно будет порождать антиномии и метафизические противопоставления, метания из одной крайности в другую, попытки примирить антихристианский нигилизм Фридриха Ницше с исканиями Вселенской церкви Влади- мира Соловьева.
Как бы то ни было, но литературный путь Мережковский начинает в среде либерально-демократической. Своим первым публичным выступлением (1881 год) он обязан поэту и революцио- неру-народнику П. Ф. Якубовичу, а близким для него журналом делаются «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-Щедрина и Д. Н. Плещеева. К этой же поре относится дружба Мережковского с С. Я. Надсоном, тогда еще юнкером Павловского военного училища, которого он «полюбил, как брата». Они посвящают друг другу стихи, в которых звучат расхожие гражданские призывы, мотивы скорби и туманного протеста против общественной реак- ции. Поэма Надсона «Три встречи Будды» навела Мережковского на мысль написать длинное пышное стихотворение «Сакья-Муии» — статуя Царя Царей смиренно склоняется перед нищим. Оно вошло во все сборники чтецов-декламаторов и принесло автору популярность. Другим ближайшим приятелем Мережковского становится поэт Н. Минский, уже сделавший себе имя на воспева- нии «больного поколенья», которое «стоит на распутьи, не зная пути». Надо сказать, что поэзия Мережковского не самая сильная часть его огромного наследия, Стихи его часто подражательны, банальны, однообразны. И не случайно Мережковский, в собрание своих сочинений (в 17 томах готовя полное 1911-1913 гг. в издательстве Вольфа и в 1915 гг. у Сытина), поместил там немало критических мелочей, но включил лишь несколько десятков стихотворений. Книжность, впитанная огромная культура мешали Мережковскому-поэту про- рваться к первородным впечатлениям.
Под влиянием народнических идей, бесед с тогдашним властителем дум, публицистом и критиком Н. К. Михайловским и Глебом Успенским молодой Мережковский отправляется «познавать жизнь». Он путешествует по Волге и Каме, посещает Уфимскую и Оренбургскую губернии, знакомится с основателем рели- гиозно-нравственного учения, основанного только на Евангелии, крестьянином Тверской губернии В. К. Сютаевым, которого навещал и Лев Толстой. Мережковского привлекают отколовшиеся от официальной церкви течения и секты, начиная с мощного народного «раскола» и кончая хлыстовством и скопчеством. Он не шутя собирается по окончании университета «уйти в народ» и стать сельским учителем. Но уже иные ориентиры возникают для него. К началу 90-х годов Мережковский испытал, по собственному при- знанию, глубокий религиозный переворот.
Это совпадает по времени с появлением в русской литературе нового направления — символизма.
Первым манифестом отечественных символистов можно считать вышедшую в 1890 году книгу Н. Минского «При свете со- вести. Мысли и мечты о цели жизни». В ней говорилось о тщетности и тленности всего перед лицом неизбежной смерти и как единственно реальное утверждалось «вечное стремление к несбыточному». Опираясь на труды русской философии и прежде всего В. Соловьева, Мережковский углубил и развил эти постулаты. В одном и том же 1892 году появился его поэтический сборник с многозначительным заглавием «Символы» и ставшая программной для нового направления работа «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Идеи, носившиеся в воздухе, воплотились в формулы.
«Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии так же, как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века» ,- писал в своей характерной «антиномической» манере Мережковский, отказываясь от собственных недавних позитивистских устремлений и призывая к «высшей идеальной культуре».
Восстав против «удушающего мертвого позитивизма» и назвав учителями символистов «великую плеяду русских писателей» — Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Мережковский провозгласил «три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширения художественной впечатлительности» «.
К тому времени, с появлением поэтических сборников К. Бальмонта «В безбрежности» и «Тишина», стихов Д. Мережковского, Н. Минского, з. Гиппиус, а позднее трех сборников В. Брюсова «Русские символисты» (1894-1895) в литературе оформилось это новое направление, черты которого были предвосхищены уже в поэзии К. Фофанова, Мирры Лохвицкой и, конечно. Вл. Соловьева:
Милый друг, иль ты не видишь, Что все видимое нами — Только отблеск, только тени От незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий Только отклик искаженный Торжествующих созвучий?
Символизм — русский символизм — явление очень широкое и еще нуждающееся в осмыслении. Сами символисты рассматривали свой метод как принципиально новый тип художественного и нравственно-религиозного мышления и с необыкновенной отчетливостью выразили в своем творчестве кризисный характер эпохи, отрицание буржуазного быта и морали, неизбежность великих исторических катаклизмов. В лучших своих произведениях они исполнены трагического величия.
В самом общем плане символизм отражал кризис традиционного гуманизма, разочарованность в идеалах «добра», ужас одиночества перед равнодушием общества и неотвратимостью смерти, трагическую неспособность личности выйти за пределы своего «я»:
Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XVIII, М» 1914, стр. 212.
Там же, стр. 218. «В своей тюрьме,- в себе самом, ты, бедный человек, //В любви, и в дружбе, и во всем //Один, один навек?..» Д. Мережковский. «Одиночество»
В то же время символизм представлял собой в определенном смысле и реакцию на голое безверие, позитивизм и натуралистическое бытописательство жизни. Поэтому он нередко проявлялся там, где натурализм обнаруживал свою несостоятельность. Нападая на плоское описательство, символисты предлагали другую крайность: пренебрегая реальностью (или недооценивая ее), они устремлялись «вглубь», к метафизической сущности видимого мира; окружающая их действительность казалась им ничтожной и недостойной внимания поэта. Это был всего лишь «покров», за которым пряталась вожделенная «тайна» — главный, по мнению художника-символиста, объект. Нужно учитывать и то, что поиски, которые велись символистами, были частью широких исканий, какими отмечена русская духовная жизнь той поры. К непредвзятой, объективной оценке этих исканий мы только приходим.
«До сих пор широко бытует представление о том,- пишет доктор философских наук А. Кулыга,- что в конце прошлого — начале нынешнего века в культурной жизни России царил сплошной декаданс, упадок мысли и нравственности. Декаданс был, но возник и своеобразный философско-религиозный ренессанс, вы- шедший за рамки страны и всколыхнувший духовную жизнь Европы, определивший поворот западной мысли в сторону человека. Корни таких философских направлений, как феноменология, экзистенциализм, персонализм,- в России. Здесь был услышан великий вопрос Канта: «Что такое человек?» Русские попытки ответа на него эхом прозвучали на Западе, а затем снова пришли к нам как откровения просвещенных европейцев» .
«Усилиями русских мыслителей — Вл. Соловьева, В. Розанова, П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова, А. Карташова, С. Франка, Н. Лосского, Л. Карсавина, П. Сорокина, В. Успенского и многих других — в России создалась совершенно особая атмосфера, позволявшая личности при внешнем деспотическом, царистском режиме обретать безусловную внутреннюю свободу. Преграды если и ставились, то только в форме механической цензуры, или, говоря словами А. Блока, «на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир». Лишь позднее более изощренное государство дога- далось, как, впрочем, и предвидел Блок в своей речи «О назначении поэта» (1921), изыскать средство для «замутнения самих источников гармонии».
Но до этого было еще далеко…
В атмосфере религиозно-философского ренессанса начала нашего века Мережковский и создавал главные свои произведения. К слову сказать, сам он не обладал даром первооткрывателя-любомудра, способностью оригинального мыслителя (как, скажем, близкий ему В. В. Розанов): он принимал или контаминировал уже сложившиеся концепции. Его устремления были направлены НА то, чтобы наново рассмотреть основы христианской догматики.
И в этом движении, которое можно определить как попытку соединить русскую культуру с православной или даже шире — Вселенской церковью,- огромную роль сыграла жена и единомышленник — Зинаида Николаевна Гиппиус.
Мережковские прожили в браке пятьдесят два года, «не разлучаясь,-по словам Гиппиус,-со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день» . Однако «идеальный» союз этот со стороны казался необычным, даже странным.
Традиционное, от века определение семьи как малого общества людей, произошедшего от одной четы, к ним не применимо: чета была бездетна и могла порождать только книги. (Как и Мережковский, Гиппиус оставила обширное литературное наследие: прежде всего поэтическое, а кроме того — романы, рассказы, пьесы, несколько критических сборников, два тома воспоминаний «Живые лица» и т. д.) Куда ближе, кажется, здесь понятие «семейство», взятое из естествознания, только с поправкой на систематику иного, внутреннего, мировоззренческого родства. Вскоре к этому семейству присоединяется критик и публицист Д. В. Философов, двоюродный брат известного художественного деятеля С. I. Дягилева. «Триумвират» просуществовал долгих пятнадцать Лет и носил характер некоей религиозно-философской ячейки или даже секты: жили «коммуной», сообща намечались генерализующие идеи и писались некоторые книги. Как вспоминал много позднее Н. А. Бердяев: «Мережковские всегда имели тенденцию к образованию своей маленькой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на кого они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и критиковал их идеи в литературе. У них было сектантское властолюбие».
Вероятно, этим и объясняется недолговечность и непрочность тех союзнических отношений, которые возникают (и распадаются) у Мережковских — как с печатными органами, так и с отдельны- ми лицами: «Северным Вестником» (где был опубликован не принятый другими журналами первый исторический роман Мережковского «Отверженный» — раннее название «Юлиана Отступника») и его редактором Акимом Волынским; так называемым «дя- гилевским кружком» (художники В. А. Серов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, поэт Н. Минский) и его трибуной «Мир Искусства» (руководителем литературного отдела которого был Д. В. Философов, напечатавший длинное исследование Мережковского «Толстой и Достоевский»); журналом «Новый Путь» (здесь появился роман «Петр и Алексей») и редактором П. П. Перцовым и т. д. Особо следует сказать о сближениях и расхождении или даже разрыве с такими деятелями философии и литературы, как В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Андрей Белый, наконец, А. А. Блок (посвятивший, кстати, Гиппиус свое знаменитое — «Рожденные в года глухие…»).
Мережковские предпочитают в итоге, используя выражение Бердяева, «свою маленькую церковь», стремясь совместить ее с церковью «большой». В 1901 году они добиваются разрешения у Синода учредить в Петербурге «Религиозно-философские собра- ния» (вместе с Розановым и Философовым). В собраниях этих участвуют видные богословы, философы, представители духовенства — В. Тернавцев, А. Карташов, В. Успенский, епископ Сергий
(Ставший через много лет, в 1943 году, патриархом Московским и всея Руси) и др.
Собрания из-за резкости и остроты выступлений просуществовали недолго: уже С апреля 1903 года их запретила синодальная власть. «Не могу сказать,- вспоминает Гиппиус,- наверное, к этому времени или более позднему относится свидание Дмитрия Сергеевича со всесильным обер-прокурором Синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Кажется, Дмитрий Сергеевич возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России…»
Идеи «религиозной общественности», своего рода варианта христианского социализма, к которым склонялся «триумвират» Мережковский — Гиппиус — Философов, понятно, никак не укладывались в рамки официального православия. Еще меньше понимания могла найти мысль, которая (вслед за В. Соловьевым) овладевает Мережковским,- соединить православие с католичеством, восточный образ «богочеловека» и западный «человекобога».
После поражения первой русской революции, «ввиду создавшегося атмосферного удушья» (как пишет Гиппиус), «триумвират»-выезжает в 1906 году в Париж, где оседает (с периодически- ми наездами в Россию) до 1914 года.
В Париже Мережковские увлеченно интересуются католичеством и модернизмом, а также сближаются с деятелями партии эсеров, умеренными и радикальными (знаменитый Борис Савин- ков даже ищет у них религиозного оправдания политического террора и получает интенсивные литературные консультации в работе над романом «Конь Бледный»). Там же складывается коллективный сборник «Le Tsar et Revolution» («Царь и революция», 1907), где Мережковскому принадлежит очерк «Революция и религия». Рассматривая русскую монархию и церковь на широком историческом фоне, он приходит к выводу: «В настоящее время едва ли возможно представить себе, какую всесокрушающую силу приобретет в глубинах народной стихии революционный смерч. В последнем крушении русской церкви с русским царством не ждет ли гибель Россию, если не вечную душу народа, то смертное тело его — государство». Исключение делается только для «избранных» — «всех мучеников революционного и религиозного движения в России». В слиянии этих двух начал и видится Мережковскому то отдаленное, чаемое будущее, совпадающее с евангельским заветом: «Да приидет царствие Твое». При всей отвлеченности, книжности таких пророчеств в них ныне прочитывается и некая им предугадываемая правда, тогда еще слабо воспринимаемая интеллигенцией. В своих для того времени странных прорицаниях Мережковский (вместе с А. Блоком или В. Розановым) обращается поверх современников в трагическое «завтра»…
Однако в силу своей сугубой отвлеченности подобные пророчества отклика в обществе не находили. И к той поре сам Мережковский, его фигура в отечественной литературе выглядела одинокой и почти оторванной, отрезанной от бурлящей России и ее «горячих» запросов. То, чем он «пугал» современников, для большинства казалось чистой схоластикой. И с некоторой долей условности можно сказать, что добровольная эмиграция для Мережковского началась задолго до событий 1917 года. Отчасти объяснение этому, кажется, мы находим в нем самом — писателе и человеке.
«Почему все не любят Мережковского?» — таким вопросом задавался А. Блок.
В самом деле, литераторы полярных направлений и групп — от М. Горького, с которым Мережковские в 1900-е годы вели яростную полемику, до близкого их исканиям В. Розанова; от «чистого» журнального критика Корнея Чуковского и до философа Н. Бердяева — оставили немало самых резких о нем отзывов и характеристик. Даже обзорная статья А. Долинина в «Русской литературе XX века» (1915), которая должна была предполагать академическую объективность, местами более похожа на памфлет. Он как будто никого не устраивает.
Особое положение Мережковского отчасти объясняется глубоким личным одиночеством, которое он сам превосходно сознавал, пронеся его с детских лет и до кончины.
Гиппиус вспоминала: «Я сказала раньше, что у него никогда не было «друга»,-как это слово понимается вообще. Отчасти (я стараюсь быть точной) это шло от него самого. Он был не то что «скрытен», но как-то естественно закрыт в себе, и даже для меня то, что лежало у него на большой глубине, приоткрывалось лишь в редкие моменты» И то, что подспудно мучило Мережковского, исповедально объяснено им как «бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жаждой свободы и простоты», как «окаменение сердца» — следствие «болезни культуры, проклятия людей, слишком далеко отошедших от природы». Слово сказано. Кажется, только отражение — от книги или созерцания па- мятника великой культуры прошлого — зажигается в этом человеке живое и сильное чувство.
Не будет преувеличением назвать Мережковского первым у нас на Руси кабинетным писателем-«европейцем».
Впрочем, именно так отзывался о нем проницательнейший Розанов (даже видя Мережковского гуляющим, он всякий раз, по собственному признанию, думал: вот идет «европеец»); о том же писали А. Блок и Н. Бердяев. Певец культуры и ее пленник, он походил на сложившийся уже в Европе тип художника-эссеиста, который явили нам Анатоль Франс (с ним Мережковский познакомился в Париже), Андре Жид, Стефан Цвейг. Полиглот, знаток античности и итальянского Возрождения, историк культуры, Мережковский особенно плодотворно выразил себя именно в жанре эссе, свободного очерка, сочетавшего элементы философии, художественной критики и ученой публицистики. Это некий перенасыщенный культурный раствор, из которого выпадают кристаллы великолепных образов, рожденных, однако, вторичным знанием, а не цельным инстинктом жизни.
Напряженное внимание к нравственно-религиозной проблема- тике, каким отмечено все творчество Мережсковского, было лишь одним из проявлений той глубокой духовной жизни, что была свойственна русской интеллигенции начала века. Одни и те же
Тайны бытия волновали Мережковского и его современников-оппонентов, например,. В. В. Розанова, Н. А. Бердяева или предшествовавшего им В. С. Соловьева. В цикле историко-религиозных работ «Больная Россия» («Зимние радуги», «Иваныч и Глеб», «Аракчеев и Фотий», «Елизавета Алексеевна» и др.), а также в примыкающих к ним очерках «Революция и религия» и «Последний святой» он делает попытку осознать, возможно ли совмещение «Божеского» и «человеческого».
Мережковскому одинаково важны и дороги правда небесная и правда земная, дух и плоть, ареной борьбы которых становится человеческая душа. Вместе с В. В. Розановым он не приемлет многого в официальной церкви и мог бы повторить розановские слова о православии, унаследовавшем старческие заветы падающей Византии: «Дитя-Россия приняла вид сморщенного старичка… и совершила все усилия, гигантские, героические, до мученичества и самораспятий, чтобы отроческое существо свое вдавить в формы старообразной мумии, завещавшей ей свои вздохи… Вся религия русская — по ту сторону гроба» .
Вот почему так важен для Мережковского «последний святой» — Серафим Саровский, который предстает под его пером не просто как заживо замуровавший себя в аскезу схимник, но несущий свою святость «в народ», являющий пример живого благочестия. Современник Павла и Александра I, Серафим Саровский (1760-1833) был, можно сказать, подвижником милосердия — как бы по контрасту с суровым, циничным и зачастую бесчеловечным временем.
Так выявляется внутренняя связь духовно-религиозной публицистики Мережковского и его романов о русской истории, в которых столь важное место занимают поиски идеала, будь то богатая духовная жизнь князя Валерьяна Голицына и других декабристов, или искания раскольников, сектантов, выдвигающих из крестьянских низов религиозных проповедников вроде Кондратия Селиванова, основавшего знаменитый хлыстовский «корабль» (с которым мы встречаемся на страницах романа «Александр I»).
Мережковский, как правило, идет от метафизической схемы: Христос и Антихрист (первая историческая трилогия). Богочеловек и Человекобог, Дух и Плоть (так, в исследовании о Толстом и Достоевском первый выступает в качестве «ясновидца плоти», воплощения ветхозаветной, земной правды, в то время как второй — Это «ясновидец духа», воплощение правды Христовой, небесной), христианство и язычество (статья о Пушкине), «власть неба» и «власть земли» (статья «Иваныч и Глеб») и т. д. В таком духе строятся многочисленные литературно-критические работы, где самое ценное все-таки не в отвлеченных схемах, а в конкретных наблюдениях, в характеристике художественной индивидуальности, в свободе эстетического анализа, даже если он осложнен тяжелой авторской тенденцией.
Трудно даже перечислить всех, о ком написал Мережковский- критик; легче, кажется, сказать, о ком он не писал. Во всяком случае, один цикл «Вечные спутники» (1897) включает портреты Лонга, автора «Дафниса и Хлои», Марка Аврелия, Плиния Младшего, Кальдерона, Гете, Сервантеса, Флобера, Монтеня, Ибсена, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Майкова, Пушкина. Критическое же наследив Мережковского составляет сотни статей и работ (в том числе и книгу о Гоголе), в которых перед нами предстает едва ли не вся панорама литературной жизни и борьбы. От рецензий 1890-х годов на произведения Чехова и Короленко и до предреволюционных статей о Белинском, Чаадаеве, Некрасове, Тютчеве, Горьком — таков неправдоподобно широкий диапазон его как критика.
При этом многие злободневные статьи Мережковского (как и выступления З. Гиппиус, избравшей себе недаром псевдоним Антон Крайний) отмечены еще и ультимативностью тона, непререкаемо-пророческим пафосом, воистину «крайностью» оценок и суждений. Упомяну хотя бы такие его программные работы, как «Грядущий Хам», «Чехов и Горький», «В обезьяньих лапах (О Леониде Андрееве)», «Асфоделии и ромашка». Правду сказать, и в них есть немало такого, что прочитывается сегодня новым, свежим взглядом, дает пищу уму и мыслям, даже в отталкивании, несогласии с автором. И сквозь весь этот пестрый и как будто бы клочковатый материал проступают знакомые нам общие постулаты, занимавшие всю жизнь воображение Мережковского. Недаром он сказал в предисловии к собранию своих сочинений, что это «не ряд книг, а одна, издаваемая для удобства только в нескольких частях. Одна об одном». Это относится, понятно, и к его историческим романам.
Всероссийскую, шире — европейскую известность принесла Мережковскому уже первая трилогия «Христос и Антихрист»: «Смерть Богов (Юлиан Отступник)», 1896; «Воскресшие БОГИ (Леонардо да Винчи)», 1902; «Антихрист (Петр и Алексей)», 1905.
Точнее сказать, известность эта пришла после публикации первого романа, «Отверженный» (раннее название «Юлиана Отступника»), едва ли не сильнейшего в трилогии. Великолепное знание истории, ее красочных реалий и подробностей, драматизм характеров, острота конфликта — столкновение молодого, поднимающегося из социальных низов христианства с пышной, ослабевшей, но еще пленяющей разум и чувство античностью позволило Мережковскому создать повествование незаурядной художественной силы. Трагична фигура императора Юлиана (правил с 361 по 363 г.), который до воцарения тайно исповедовал языческое многобожие, а затем решился повернуть историю вспять, дерзнул возвратить обреченную велением времени великую, но умирающую культуру.
Сам Мережковский, кажется, сочувствует своему герою, противопоставляя аскетической, умерщвляющей плоть религии «галилеян» (христиан), устремленной к высоким, но отвлеченным истинам добра и абсолютной правды, светлое эллинское миросозерцание, с его проповедью гедонизма, торжеством земных радостей, волшебно прекрасной философией, искусством, поэзией. Порою христианство предстает в романе не утверждением высших принципов духовности, а всего лишь победой злой воли слепой и темной в своем опьянении вседозволенностью толпы, низкие инстинкты которой разожжены свирепыми призывами князей церкви: «Святые императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей». Но вера в Спасителя — это религия социальных низов, религия бедных. И в восприятии народном Юлиан предстает не просто Отступником, но Антихристом, Анти-Христом, Диаволом. Сам Ощущая свою обреченность, раздираемый противоречиями, он погибает со ставшей знаменитой фразой на устах: «Ты победил. Галилеянин!..»
В следующем романе — «Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)» Мережковский широкими мазками рисует эпоху Возрождения в противоречиях между монашески суровым Средневековьем и новым, гуманистическим мировоззрением, которое вместе с воз- вращением античных ценностей принесли великие художники и мыслители этой поры. Однако здесь уже проступает некая нарочитость, заданность: вместе с возрождением античного искусства якобы воскресли и боги древности. И все же в романе главным является не отвлеченная концепция, а сам великий герой, гениальный художник и мыслитель. Леонардо, его «страшный лик» и «змеиная мудрость» с особой силой влекли к себе Мережковского — как символ Богочеловека и Богоборца:
Пророк, иль демон, иль Кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты — предвестник
Еще неведомого дня.
Смотрите вы, больные дети
Больных и сумрачных веков,
Во мраке будущих столетий
Он непонятен и суров,-
Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.
Д. Мережковский. «Леонардо да Винчи»
Работая над первой трилогией, Мережковский ощущал, что идеалы христианства и ценности гуманизма, понятие Царства Небесного и смысл царства земного для Него несовместимы, мета- физически разорваны. Позднее он объяснит свои искания: «Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды; христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иису- се. Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению — таков мой путь,- и спутник-читатель, если он мне равен в главном — в свободе исканий,- придет к той же истине» .
Все же следы этой раздвоенности не покинут Мережковского до самых последних его работ.
Помимо трилогии «Христос и Антихрист» и трилогии из русской жизни «Павел 1», «Александр 1» и «14 декабря», ему при- надлежит еще целый ряд произведений, написанных уже в эмиграции. Жанр их не всегда определим, Так как форма традиционного романа смыкается с беллетризованной документальной биографией или даже историко-философским трактатом. В этих позднейших книгах — «Рождение Богов (Тутанкамон на Крите)» (1925); «Мессия» (1927); «Тайна Запада. Атлантида-Европа» (1930); «Иисус Неизвестный» (1932); двухтомное исследование «Данте» (1939), книга об испанской святой «Маленькая Тереза», очерки «Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль» и т. д.- элементы книжности, музейной архаики нарастают. Как писал о «Рождении Богов» и «Мессии» советский критик Д. Горбов, «это огромные саркофаги, воздвигнутые бесстрастной рукой историка- «гробокопателя», холодные тронные залы все той же идеи господства мира мертвых над миром живых».
Было бы неверно, однако, целиком принять эту жестокую, звучащую как приговор формулу Д. Горбова. Мережковский не был только книжным затворником. Так, занимаясь эпохой Пет- ра 1, он совершил далекие поездки по России, изучая «живьем» раскол, в котором ему виделся свет религиозной истины, утрачен- ной официальной церковью. Но и тут проявлялся его «европеизм», кабинетность таланта.
«Он был очень далек от типа русского писателя, очень часто встречающегося…- замечала З. Гиппиус.- Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью, я бы сказала, ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна. Начиная с «Леонардо» — он стремился, кроме книжного собирания источников, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Не всегда это удавалось: его мечта побывать в Галилее, перед работой об «Иису- се Неизвестном», и в Испании, когда он писал (это уже в послед- ние годы жизни) «Терезу Авильскую» и «Иоанна Креста» — не осуществилась; но наше путешествие «по следам Франциска 1» (которого сопровождал Леонардо), начавшееся с деревушки Вин- чи, ГДЕ родился Леонардо, и до Амбуаза, где он умер,- было пер- вым такого рода; вторым — в глубину России, к раскольникам- старообрядцам, ко «Граду Китежу»,- когда Дмитрий] Сергее- вич собирался писать Петра 1; третьим — почти двухлетнее сле- дование за ДаНте, по другим городам и местам Италии (уже перед последней войной) перед его большим трудом о Данте. Пов- торяю, более всестороннего и тщательного исследования темы, будь то роман или не роман,- трудно было у кого-нибудь встре- тить «…» В работе о Египте ему помогла Германия, где ему, из специальной библиотеки, привозили на тачках (буквально) гро- мадные фолианты, в которых он нуждался».
Однако документ, как и географические и исторические реалии, в итоге как бы сковывал фантазию Мережковского-худож- ника. Писатель использовал его не как отправную точку для показа путешествия души героев, для создания новых, неизвестных ранее в литературе характеров. Он оставался, можно сказать, «внутри» документа, преобразуя его то в выдуманный дневник одного из персонажей романа, то в форму острого диалога или «1здтреянего потока сознания, который превращался таким образом в поток цитат. Это было именно тщательное «исследование темы». Для художника, открывающего нам тайны человека, созидающего типы времени, оно лишь пролог к собственно творчеству (так документальные изыскания Пушкина явили нам «Историю пугачевского бунта», а роман «Капитанская дочка» волшебно преобразил документ в высокое искусство); у Мережковского творчество укладывалось в рамки сбора, систематизации и осмысления материала. Как подсчитал один из критиков, из тысячи страниц его романа о Леонардо да Винчи не менее половины приходится на подробные выписки, материалы и дневники. Отсюда заметная иллю- стративность исторических романов Мережковского, герои которых — воистину рупоры идей автора.
Впрочем, в этих ограниченных пределах он остается художником, стремящимся прежде всего к внешним эффектам, ярким и драматическим зарисовкам, идя от фактов и реалий (наподобие многофигурных и явно театральных полотен академика живописи Г.И- Семирадского; так и хочется сопоставить его пышное полотно «Светочи Нерона» с романом «Юлиан Отступник»). Мережковский недаром выбирает для своих романов особенные — смутные, колеблемые раздвоением, вызревающими конфликтами вре- мена. Такова, к примеру, эпоха Юлиана Отступника (христианство уже победило, но язычество еще не изжито; в христианстве укрывается языческий разврат), или Леонардо да Винчи (возрождается язычество, эллинизм, а христианство в лице католицизма вырождается, причем в самых уродливых формах), или Петра 1, или религиозной смуты на Крите и в Египте. Кризис гуманизма, кризис веры в конечное торжество добра (приведшие в итоге к появлению символизма) наложили мощный отпечаток на творчество Мережковского. В ряде его романов мы найдем полное смещение нравстванных норм, тягу к откровенной эротике, тщательное живописание насилия и жестокости. С Мережковским, по утверждению Н. Бердяева, «исчезает из русской литературы ее необыкновенное правдолюбие и моральный пафос».
Об Этом, можно сказать, ницшеански-демонстративном нежелании считаться с заповедями традиционной, христианской морали размышлял философ и критик И. А. Ильин, подробно, пристрастно и очень последовательно проанализировавший романы Мережковского:
«Ложное истинно. А истинное ложно. Это — диалектика? ИЗвращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот искренно верующая христианка — от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря — он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятое — тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца, или не стыдись. От руки найденного идола — совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое — «из почтения к Богоматери». Человек имеет две ладанки — с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к Распятию, a внутри у Него Венера. Чистейшая кровь Диониса — Галилеянина. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие корозы и отдают в таком виде быку — это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва—на колдов- ское заклинание. Христос — Мечта. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение».
«Искусство это? — задается в итоге вопросом Ильин.- Но тогда это искусство, попирающее все законы художественного. Религия это? Нет — это скорее безверие и безбожие».
Характерно, однако, что во всех этих рассуждениях речь идет о романах (кроме одного — «Петр и Алексей»), написанных на иноземном историческом материале-Рим, Италия, Крит, Еги- пет. И. А. Ильин совершенно не касается двух крупных произ- ведений Мережковского — «Александр 1» и «14 декабря» (равно как и пьесы «Павел 1»). Скорее всего, по той простой причине, что здесь его критическое жало не нашло бы жертвы.
Трилогия «Павел 1» — «Александр 1» — «14 декабря» свобод- на от метафизической догматики, и от красочной эротики, и от смакования жестокостей. Я бы сказал даже, что тут (например, в романе «Александр 1») ощущаешь ту связь с гуманистической традицией русской литературы XIX века, которая оказалась в других произведения Мережковского утраченной.
Вторая трилогия — только о России Конечно, Мережковский и в ней остается верен себе. Он вновь выбирает «смутное время»: конец царствования Павла, заговор и убийство императора; закат правления Александра 1, броже- ние и недовольство в обществе, нравственно-религиозные иска- ния, движение дворянских революционеров, их неудача 14 декабря 1825 года. Пробел во времени между событиями, о которых гово- рится в пьесе и романах, огромен — без малого четверть века. Выпадают и славные страницы Отечественной войны 1812 года; однако героический период русской истории Мережковского, ви- димо, не интересует. В пьесе ему, помимо главной цели — осуж- дения самодержавия на примере дикого самодурства и деспотизма Павла,- важно еще показать начало опустошающей душу тра- гедии Александра Павловича, ставшего невольным соучастником дворцового переворота. Отцеубийство. Этот мотив найдет затем развернутое продолжение в романе, в показе раздвоенного, прояв- ляющего себя то в приливах лицемерия, то в приступах больной совести характера Александра 1.
Уже отмечалось, сколь важны были всегда для Мережков- ского-романиста источники; о них следует сказать особо. В пору написания трилогии он имел возможность опираться на капитальные труды, созданные отечественными историками.
Здесь раньше всего нужно назвать серию монографий Н. К. Шильдера, посвященных русским монархам: огромное исследование в четырех томах «Император Александр 1, его жизнь и царствование» (1897-1898), работы «Император Павел 1» (1901)
и «Император Николай 1» (опубликована в 1903 году). В послед- нем, незавершенном двухтомном труде (автор покончил с собой в 1902 году, повторив таким образом поступок своего коронованного героя) Шильдер с особенным историческим беспристрастием, необычным для историка его положения, говорит о многих сторонах царствования Николая, в том числе и о характере официального следствия по делу декабристов.
Ослабление цензуры после первой русской революции вызвало появление многочисленНЫх работ, посвященных «темным пятнaм» русской истории (например, в серии «Русская быль» — «Смерть Павла Первого» немецких ученых Шимана и Брекнара, «Разруха 1825 года. Восшествие на престол императора Николая 1» Г. Василича, его же компилятивный труд «Император Александр 1 и старец Федор Кузьмич» и т. д.). Достоянием читателя становится целая библиотека, посвященная декабристам: издают- ся сборники документов, воспоминания, исследования. Среди прочих назову сборник донесений, приказов и правительственных сообщений под редакцией богучарского «Государственные преступления в России» (заграничное издание 1903-го и петербургское — 1906 года), мемуары Н. Тургенева, братьев Бестужевых, Трубецкого (1907), составленный Семевским, Богучарским и Щеголевым сборник «Общественное движение в России в первую половину XIX века» (1905), работы Довнар-Запольского «Мемуары декабристов» (1906), «Тайное общество декабристов» (1906) и «Идеалы декабристов» (1907), «Галерею шлиссельбургских узников» под редакцией Анненского, Богучарского, Семевского и Якубовича (1907), «Декабристы» Котляревского (1907), «Политические и об- щественные идеалы декабристов» Семевского (1909) и мн. др.
Особо важным подспорьем для Мережковского оказались исследования замечательного русского историка Великого Князя Николая Михайловича «Император Александр 1» (1912) и трех- томная работа «Императрица Елизавета Алексеевна» (1908-1909). Ведь для автора (внука Николая 1) были открыты все запретные для других дворцовые архивы. Николай Михайлович опубликовал широкий, недоступный ранее материал (например, пространную интимную переписку жены Александра 1 Елизаветы Алексеовны со своей матерью, маркграфиней Ваденской Амалией), которым воспользовался Мережковский.
Но события времен Павла и Александра 1 не были для писателя седой стариной. О них помнили не только книги, но и люди. Именно в царствование Павла, как уже говорилось, дед Мережковского начал свою службу в гвардейском Измайловском полку, а затем участвовал в войне 1812 года; судя по всему, он был и свидетелем декабрьского восстания в Петербурге 1825 года. Ины- ми словами, благодаря семейным преданиям Мережковский мог получить многое, так сказать, из первых рук. Не потому ли, несмотря на традиционное обилие скрытых и явных цитат, вторая трилогия выглядит все же не энциклопедией чужой мудрости, а серией живых картин русской жизни.
Особый характер придает ей резкая антимонархистская, антицаристская направленность.
И здесь, верный себе, Мережковский находит теологическое обоснование своих взглядов. В результате долгих размышлений, поисков (в которых участвует весь «триумвират») он находит категорическую формулу: «Да — самодержавие от Антихриста». Уже в ходе работы над романом «Петр и Алексей» симпатии ав- тора все более склоняются к «непонятому» Алексею, «жертве», олицетворению «патриархальной России», -а также к гонимым раскольникам, несущим, по его мнению, народную правду. Пушкинскую фразу о Петре 1; «Россию поднял на дыбы» Мережковский переиначивает «на дыбу»; бессильная угроза несчастного Евгения Медному Всаднику «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!» оборачивается зловещим предсказанием: «Петербургу быть пусту!»
Надо сказать, что резко отрицательЕОе отношение к абсолю- тистскому государству, самодержавно-бюрократическому строю было характерно для русского символизма в целом. Так, очень близок своим антимонархическим пафосом прозе Мережковского роман Андрея Белого «Петербург» (1913-1916), который был от- вергнут редактором журнала «Русская мысль» П. Струве из-за «антигосударственной тенденции», которая здесь «очасти зла и даже скептична». Но, пожалуй, наибольшего накала обличение мо- нархии достигает в пьесе Мережковского «Павел 1″».
В фундаментальных грудах отечественных историков правление Павла уже получило к тому времени недвусмысленную оценку. Самодержавие, с его бесконтрольностью и абсолютной полнотой власти, раскрылось во всей вопиющей несправедливости, когда на троне оказался человек с явно расстроенной психикой, на- вязчивой подозрительностью, у которого самые благие порывы приводили к печальным последствиям и который оставил память о себе как о жестоком маньяке. Характеризуя царствование Павла, Н. К. Шильдер писал: «…новая эра является перед нами в виде сплошного, тяжелого кошмара, напоминающего порою, по выражению современника, «зады Грозного» . Современником этим был не кто иной, как Н. М. Карамзин, автор «Записки о древней и новой России» (поданной Александру 1 через великую княгиню Екатерину Павловну), где он дал уничтожающую характеристику Павлу и его царствованию. И хотя делались (и делаются поныне) попытки переосмыслить эту оценку, думаю, можно считать ее окончательной.
В своей пьесе Мережковский даже сгущает мрак павловского царствования, вынося за скобки и то немногое доброе, что было в императоре. Под его пером Павел — это злая кукла, автомат, наделенный неограниченной властью и гибнущий в результате развязанной им фантасмагории. Отсюда, от пьесы Мережковского, идет целая традиция в нашей литературе, например, трактовка Павла 1 и русской монархии у Ю. Тынянова («Подпоручик Киже»). Влияние Мережковского порой проявлялось в буквальном следовании за ним других авторов (так, исторический роман 1936 года А. Шишко «Беспокойный век» оказался построен на прямых заимствованиях из пьесы).
В один из наездов Мережковских в Петербург, 14 декабря 1908 года, на вечере, устроенном в пользу писателя А. М. Ремизова, были впервые разыграны два действия драмы «Павел 1» в костюмах того времени. По случайному совпадению премьера состоялась в день 83-й годовщины восстания на Сенатской площа- ди. К тому времени Мережковский уже работал над романом «Александр 1» и думал о следующем, который по замыслу должен был носить заглавие «Николай 1».
В центре остросюжетной пьесы — сам император, вокруг ко- торого сжимается кольцо заговора; роман «Александр 1» пред-
ставляет собой совершенно иное, многоплановое произведение. Здесь центр тяжести рассредоточен на нескольких центральных персонажах: сам император; «вольнодумец» и декабрист князь Валерьян Голицын; его любимая, угасающая от чахотки незаконная дочь Александра Софья Нарышкина; несчастная супруга царя елизавета Алексеевна. Все они действуют на широком историческом фоне — петербургский свет, участники дворянского заговора, тайная жизнь масонских лож и религиозных сект (вроде «корабля» Татариновой, который посещает Валерьян Голицын), борьба У трона временщиков — Аракчеева и митрополита Фотия с «конкурентом», Голицыным другим, обер-прокурором Святейшего Синода, и т. д.
Разумеется, фигуре самого Александра 1 в романе отдано не- которое предпочтение. Можно сказать, что здесь Мережковский идет за Пушкиным:
Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда.
Россия присмирела снова, И пуще царь пошел кутить, Но искра пламени иного Уже издавна, может быть,
Расшифрованные потомками строфы из десятой главы «Евгения Онегина», можно сказать, являются ключом к целому периоду нашей истории и к характеру самого Александра. Мереж- ковский реставрирует этот характер, отказываясь от романтических соблазнов вроде версии об уходе императора «в скит» замаливать свои грехи (которая увлекла, помимо множества рядовых перьев, «самого» Льва Толстого). В предпоследней главе из Таганрога, где скончался государь, идет по почтовому тракту похожий на него отставной солдат Федор Кузьмич.
Несмотря на многочисленные «странные» высказывания Александра на протяжении всей его жизни (отречься от престола и уехать в Америку или, во время кампании 1812 года, отрастить себе бороду и питаться картофелем где-то за Уралом, но не соглашаться на переговоры с Наполеоном), писатель оставался в твердом убеждении, что его герой не способен на нравственное подвижничество. Но давняя трещина прошлась, раздвоив характер императора. В минуты раскаяния он считал себя отцеубийцей.
И здесь Мережковский шел от свидетельства историков: «Наследник престола знал все подробности заговора, ничего не сделал, чтобы предотвратить его, а, напротив того, дал свое обдуманное согласие на действия злоумышленников, как бы закрывая глаза на несомненную вероятность плачевного исхода, т. е. насильственную смерть отца». Вообще говоря, смутный внутренний мир Александра очень близок Мережковскому-художнику: метания между вольнолюби- выми идеями воспитавшего его Лагарпа и желание видеть Россию единой казармой наподобие огромного аракчеевского поселения; мучения отца, потерявшего одну за другой трех дочерей (двух малолетних, от Елизаветы Алексеевны, и взрослую — Софью, от Марии Антоновны Нарышкиной), и лицемерие, фальшь, каменное бесчувствие при виде страдающего под крепостным гнетом народа. Так угадывается в романе излюбленная Мережковским анти- номия, которая тут принимает два полярных начала: «небесное» и «земное».
«Небесное» начало редко посещает государя; оно удел двух женских образов — дочери Софьи и жены Елизаветы Алексеевны. Нисходит оно, впрочем, и на декабристов, даже посреди подготов- ки кровавого переворота, когда внезапно в них прочитывается нечто чистое, «детское». Показательно, однако, что здесь в главные герои романа Мережковский вербует не «железного» Пестеля или напоминающего позднейших террористовнародовольцев исступленного Каховского. Его внимание привлекает сомневающийся, рефлектирующий князь Валерьян Голицын.
Он принадлежал к умеренному крылу Северного общества и мог многим импонировать Мережковскому. Учился в иезуитском колледже, дружил с Чаадаевым, рассуждал о католицизме и православии и «заимствовал свободный образ мыслей от чтения жарких прений в парламентах тех народов, кои имеют конституцию» (показания на следствии). Присужденный к ссылке в Сибирь, Го- лицын через одиннадцать лет был переведен рядовым на Кавказ, в 1838 году поступил на гражданскую службу в Ставрополе и умер в 1859 году. В ряде его черт (вплоть до сильного, но пла- тонически-отвлеченного чувства к Софье) угадывается нечто от личности самого Мережковского.
С неожиданной для этого писателя поэтичностью и глубоким лиризмом обрисованы в романе его героини.
Характер хрупкой, словно случайно залетевшей на грешную землю и быстро покинувшей ее Софьи целиком домыслен писателем. Облик Елизаветы Алексеевны воссоздан по документам. Правда, как свидетельствует Николай Михайлович, дневник Елизаветы Алексеевны, «который она вела за все время своего пребывания в России до кончины в Белове (в 1826 году.- Он был сожжен императором Николаем 1». Иными словами, ее ежедневные записи, приводимые в романе (равно как и дневник Голицына), выдуманы Мережковским. Но документальный материал тут велик (только писем к матери было 1145). Он дает полное основание утверждать, что Елизавета Алексеевна, помимо того, что она была больной совестью Александра и несчастной матерью, обладало еще неподдельным вольнолюбием, возвышенными духовными чертами.
«Я проповедывала революции, как безумная, я хотела одного — видеть несчастную Россию счастливою, какою бы то ни было ценою»,- приводит Мережковский выдержку из ее письма матери в отзыве на первый том книги Великого Князя Николая Михай-
ловича «Императрица Елизавета Алексеевна» и размышляет далее: «Николай 1 хорошо знал, что делает, когда, после кончины Елизаветы, собственноручно сжег eе многолетний дневник. Что думал и чувствовал он в то время, как тлели на огне эти обличительные страницы, вырванные из русской истории? Если бы в руки его попались и эти письма,- не предал ли бы он их огню вместе с дневником?».
Если Елизавета Алексеевна — больная совесть Александра, то, по замыслу Мережковского, Софья — больная совесть декаб- риста Голицына. Полны глубокого смысла слова, сказанные ею князю Валерьяну Михайловичу накануне своей кончины: «Живых убивать можно,—но как же мертвого?» О них Голицын вспоминает, когда, собираясь с Пестелем в Таганрог, где задумано по- кушение на Александра, они узнают о его смерти. Об этих словах вправе вспомнить и мы, применительно к истории новой. Ибо от века горазды мы льстить живым и убивать мертвых.
Слова эти бросают новый свет и на завершающий трилогию роман «14 декабря», который создавался Мережковским посреди великой революции, охватившей Россию.
Октябрь, Советскую власть Мережковские не приняли; «три- умвират» выезжает, а точнее — бежит от большевиков в Варша- ву, где Философов остается. Мережковский и Гиппиус обосновы- ваются в Париже.
Несмотря на свою европейскую известность (вместе с Буниным и Шмелевым он был кандидатом на Нобелевскую премию), несмотря на активное участие в литературной жизни (популяр- ными стали учрежденные им и Гиппиус заседания «Зеленая лампа»), наконец, несмотря на свою исключительную плодовитость и в эмиграции, Мережковский постепенно становится фигурой архаичной, почти выморочной. Бунин записывает в дневник 7/20 января 1922 года: «Вечер Мережковского и Гиппиус у Цетлиной. Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты — плоско и элементарно до нельзя» «.
В политической ненависти к коммунизму Мережковский по- следовательно ставил на всех диктаторов: Пилсудского, Муссоли- ни, Гитлера. Когда фашистская Германия напала на нашу стра- ну, он, 76-летний старик, выступил по радио, где сравнил Гитлера… с Жанной д’Арк! Большинство эмигрантов отвернулись от него. Между тем этот последний, роковой шаг был сделан Ме- режковским, как он сам обмолвился как-то, только «из под- лости».
«Положа руку ва сердце,- пишет встречавшаяся с ним в то время Ирина Одоевцева,- утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему «…»
Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.
А ведь сам он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним,- Мережковский не разглядел, проглядел его».
Однако клеймо «коллаборациониста» так и не было смыто. И когда полгода спустя после своей радиопередачи Мережковский скончался (9 декабря 1941 года), проводить его в последний путь в православной церкви на улице Дарю, в Париже, собралось всего несколько человек.
Олег Михайлов
Читать Дмитрий Мережковский «Смерть Богов (Юлиан Отступник)»
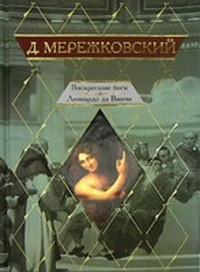 «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» — историософский роман Дмитрия Мережковского о Леонардо да Винчи. Впервые напечатан журналом «Мир Божий» в 1900 году, отдельным изданием вышел в 1901 году. Стал второй частью трилогии «Христос и Антихрист» (1895—1907).
«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» — историософский роман Дмитрия Мережковского о Леонардо да Винчи. Впервые напечатан журналом «Мир Божий» в 1900 году, отдельным изданием вышел в 1901 году. Стал второй частью трилогии «Христос и Антихрист» (1895—1907).
Будучи идейно связан с первой и третьей книгами и развивающий идею автора о «движении истории как борьбы религии духа и религии плоти», роман обладает полной смысловой самостоятельностью и законченностью сюжета, в центре которого — жизнь итальянского гуманиста эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452—1519).
История создания
Как пишет О. Михайлов, Леонардо, его «страшный лик» и «змеиная мудрость» с особой силой влекли к себе Мережковского — как символ Богочеловека и Богоборца. Начиная с «Леонардо», писатель всего стремился, помимо книжного собирания источников, ещё непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Писатель приступил к тщательному «исследованию темы»: этот процесс для него всегда был не столько подготовкой к творческому процессу, сколько его основной частью. Как подсчитал один из критиков, из тысячи страниц его романа о Леонардо да Винчи не менее половины приходится на подробные выписки, материалы и дневники[1].
К работе над романом Мережковский приступил сразу же по окончании работы над «Юлианом Отступником»: к этому моменту замысел всей трилогии в его творческом сознании уже полностью сформировался. Он погрузился в изучение эпохи Возрождения, а 1896 году Мережковский вместе с Гиппиус (и в сопровождении А. Волынского) совершил большое европейское «турне» — по маршрутам Леонардо да Винчи[2].
Как отмечалось впоследствии исследователями, путешествие носило странный характер — прежде всего из-за разыгравшегося в ходе его бурного и скандального романа Гиппиус и Волынского (завершившегося разрывом). Мережковский относительно его пребывал в неведении: он «наслаждался странствием, собирал материалы в обществе жены и друга»[2]. По замыслу писателя, путешественники, посетив Флоренцию и Милан, должны были затем в точности повторить маршрут Леонардо, сопровождавшего Франциска I: Фаэнци, Форли, Римини, Пезаро, Урбино, Равенна, Мантуя, Павия, Симплоне. Завершить путешествие предполагалось в замке Амбуаз, где Леонардо скончался.
Вы спрашиваете — хорошо ли мое путешествие. И очень хорошо, и очень дурно. Хорошо тем, что много и плодотворно работаю, дурно тем, что денег мало и благодаря этому я не могу работать так плодотворно, как бы мне этого хотелось. Вчера я был в селенье Винчи, где родился и провел детство Леонардо да Винчи. Я посетил его домик, который принадлежит теперь бедным поселянам. Я ходил по окрестным горам, где в первый раз он увидел Божий мир. Если бы Вы знали, как это все прекрасно, близко нам, русским, просто и нужно. Как это все освежает и очищает душу от петербургской мерзости[2]. — Д. С. Мережковский в письме П. П. Перцову.
Годы работы над романом были омрачены скандалом, связанным с романом Гиппиус. А. Волынский, в отчаянии от разрыва с возлюбленной, принялся «мстить» её мужу: сначала отстранил его от работы в «Северном вестнике», потом опубликовал под своим именем заметки Мережковского о Леонардо, из-за чего был обвинён в плагиате. Надежда на авансирование «Леонардо да Винчи» и публикацию в «Северном вестнике» исчезла.
Не знаю, где я буду печатать Леонардо, и это меня очень беспокоит. Неужели такой громадный труд не даст мне материального покоя и отдыха хоть на несколько времени? Вообще надо иметь мужество, чтобы так жить, как я теперь живу[2]. — Мережковский — П. П. Перцову
В конечном итоге роман «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», завершённый в 1899 году и отвергнутый крупными изданиями «традиционной» направленности, был опубликован журналом «Мир Божий». Даже это стало возможно лишь благодаря давним (со времён «старого» «Северного вестника») дружеским связям Мережковского с семьей его издательницы А. А. Давыдовой (в её дочь Лиду Мережковский был в студенческие годы влюблен). Роман выглядел явно инородной публикацией в «журнале для юношества», придерживавшегося стойкого «либерального» направления[2].
Содержание романа
Во втором романе трилогии Д. С. Мережковский (как отмечает критик О. Михайлов) «широкими мазками рисует эпоху Возрождения в противоречиях между монашески суровым Средневековьем и новым, гуманистическим мировоззрением, которое вместе с возвращением античных ценностей принесли великие художники и мыслители этой поры»[1].
Начало романа перекликается с финалом «Юлиана Отступника», с «вещими» словами Арсинои о будущих далеких потомках, «неведомых братьях», которые «откопают святые кости Эллады, обломки божественного мрамора и снова будут молиться и плакать над ними». В одной из первых сцен «Леонардо да Винчи» откапывают ту самую статую Афродиты Праксителя, у подножья которой плакал маленький Юлиан[3].
По Мережковскому, противостояние двух «правд» и в эпоху Леонардо создаёт столь же неразрешимые проблемы, как это было во времена Юлиана. Художник, ищущий «синтез на путях научной истины»[3], терпит поражение; живёт в состоянии раздвоения, пугая учеников возникающим в его облике призраком Антихриста. Второй роман трилогии, таким образом, не разрешая поставленных вопросов, выводит их развитие на новый уровень, перемещая фокус внимания автора с Запада на Восток[3].
Сюжет
Купец Буонаккорзи, собиратель античности, находит статую Венеры. В качестве эксперта приглашается Леонардо да Винчи. Несколько молодых людей (один из них — Джованни Бельтраффио) обсуждают поведение странного художника. Христианский священник отец Фаустино, всюду видящий Дьявола, врывается в дом и разбивает прекрасную статую. Джованни поступает в ученики к Леонардо, который занимается постройкой летательного аппарата, пишет «Тайную вечерю», строит памятник герцогу Сфорца. Начинается знакомство Бельтраффио с Кассандрой: та убеждает его в необходимости поверить в старых олимпийских богов.
Леонардо — на службе у герцога Моро, правителя Флоренции. Проекты строительства соборов и каналов кажутся последнему слишком смелыми. Герцог при этом оказывается причастен к смерти Джан-Галеаццо, друга Леонардо, в чём многие подозревают последнего, как безбожника и колдуна. Тем временем Бельтраффио размышляет об учителе: тот представляется ему попеременно — то святым, то Антихристом. Под влиянием проповедей Савонаролы Джованни уходит от Леонардо, чтобы стать послушником. Савонарола собирает «Священное Воинство» в крестовый поход против римского Папы. Воинство, куда входит и Джованни, громит дворцы, жжет книги, разбивает статуи, врывается в дома «нечестивцев», сжигает творение Леонардо — картину «Леда и лебедь». Джованни, потрясённый увиденным, возвращается к учителю.
Савонарола, утрачивая влияние, оказывается в тюрьме; герцог обращается к религии. В Италию вступают французские войска, и Леонардо ждут новые испытания. Он поступает на службу к Чезаре Борджа; здесь — вновь размышляет о власти, церкви, опасности знаний. Неожиданные опасности таят и конфликты с соперниками: Микеланджело и Рафаэлем.
Бельтраффио вновь встречается с Кассандрой, которая, соблюдая христианские обряды, остаётся язычницей. Она гибнет, становясь жертвой охоты на ведьм, развязанной инквизицией. В Италии идет гражданская война; Леонардо с Джованни переезжает в Рим, ко двору папы Льва X. Здесь вновь козни против него строит Микеланджело, пытающийся убедить Папу в том, что Леонардо — изменник.
Джованни Бельтраффио находят повешенным: выясняется, что он покончил с собой от мысли, что Христос и Антихрист — одно и то же. Леонардо умирает, не построив летательной машины и не разрешив своих сомнений.
Отзывы критики
Роман был неоднозначно принят критикой. Как отмечает о. А. Мень, Мережковский «изобразил проповедника Савонаролу безумцем», а Леонардо да Винчи обрисовал «по образцу некой абстрактной модели, заимствованной у Ницше»[4]. Современные Мережковскому критики отмечали здесь влияние и той стороны ницшеанства, которая «заменяет мораль преклонением перед силой и ставит искусство по ту сторону добра и зла».
Как отмечает О. Михайлов, в романе «проступает некая нарочитость, заданность»; вместе с возрождением античного искусства «воскресают» и боги древности. И всё же главным в романе, на его взгляд, является «не отвлеченная концепция, а сам великий герой, гениальный художник и мыслитель»[1].
Дмитрий Мережковский «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»
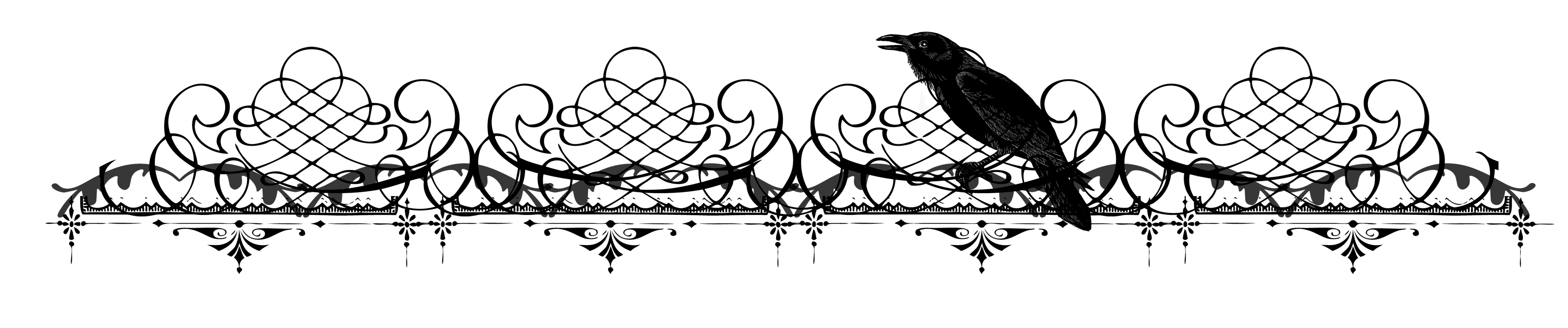

«Антихрист. Петр и Алексей» — историософский роман Д. С. Мережковского, написанный в 1903—1904 годы, впервые напечатанный в журнале «Новый путь», а отдельным изданием вышедший в 1905 году. Роман «Антихрист. Петр и Алексей», ставший третьей частью трилоги Мережковского «Христос и Антихрист», был (вместе с двумя первыми частями, «Смерть богов. Юлиан Отступник» и «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»), переиздан в Берлине в 1922 году. Все три романа имели большой успех в странах Западной Европы и обеспечили Мережковскому общеевропейскую известность. Экранизирован в 1997 году.
Предыстория
Готовясь к началу работы над третьей частью трилогии, Д. С. Мережковский ездил для изучения быта сектантов и староверов за Волгу, в Керженские леса, в город Семёнов; в 1902 году он побывал на озере Светлояр, где находится, согласно преданию, невидимый Китеж-град. Здесь провёл он ночь на Ивана Купала в лесу, на берегу озера, в беседе со странниками разных вер, которые сходились туда в эту ночь со всей России. Зинаида Гиппиус рассказала об этой поездке в очерке «Светлое озеро» («Новый путь». 1904. № 1-2)[1].
Идеи романа
Так же, как второй роман трилогии словно бы «подхватывал эстафету» у окончания первого, так и «Пётр и Алексей» развивает темы и проблемы, намеченные в заключительных главах «Леонардо да Винчи». Теперь воплощением борьбы двух мировых начал («Христа» и «Антихриста») в истории стала эпоха петровских реформ в России. В «Петре и Алексее» сходятся несколько ранних нитей трилогии: воскресает разбитая в «Леонардо да Винчи» Афродита Праксителя, в русских переводах звучат сочинения Леонардо, священники-старообрядцы спорят о чистоте веры, как спорили приглашённые Юлианом на собор христианские монахи. Россия в третьем романе оказывается своего рода «наследницей» общемирового конфликта[2].
Как отмечал о.Александр Мень, в своём богословско-философском романе о Петре I автор рисует последнего «воплощённым антихристом», во многом — под влиянием соответствующего представления, бытовавшего в раскольнической среде. Носителем веры изображён здесь царевич Алексей, который, беседуя с Лейбницем, на вопрос: «Почему у вас в России всё так неблагополучно?» — отвечает: «Ну да, мы голые, пьяные, нищие, но в нас — Христос»[3].
Уже после завершения работы над трилогией Мережковский так объяснял эволюцию своих взглядов:
Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе <…> Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению — таков мой путь,— и спутник-читатель, если он мне равен в главном — в свободе исканий,— придёт к той же истине[4].
Народ и церковь
Мировоззренческая позиция автора, как отмечали исследователи, в заключительной части трилогии претерпела (в сравнении с первыми двумя частями романа) некоторое смещение. Мир здесь по-прежнему есть царство непримиримых «бездн», но рассматривается этот конфликт с этической, христианской точки зрения[5].
Иначе изображён в романе народ: если в двух первых романах «чернь» (склонная к предательству) противостояла «людям природы» (солдатам Юлиана), то в «Антихристе» народной «черни» как таковой нет; крестьяне становятся здесь самостоятельной доминантой; городской мелкий люд неоднороден и неоднозначен; изображён — временами с сочувствием. Народ несёт здесь как светлые идеи жертвенности (Докукин), так и идею вселенского разрушения («Запалим <…> огоньки!… Россия и вся погорит, а за Россией — вселенная!» — Старец Корнилий). Народ здесь (согласно З. Минц) оказывается носителем и «правды о небе», и «правды о земле»; в нём — обетование грядущего «синтеза»[5].
Церковь в романе служит государству-«антихристу». Здесь ярко выписаны образы корыстных церковников (Федоска Яновский, Феофан Прокопович), добровольно разрушающих допетровское православие. Кульминация этой линии романа — предписание священникам доносить в Тайную канцелярию о государственных преступлениях, раскрытых на исповеди. Жертва этого указа — обвинённый в измене царевич Алексей, — умирая от пыток, кричит священнику: «Хамы, хамы все до единого! <…> Церковь антихристу продали!»[5]
Отзывы критиков
В отличие от большинства критиков начала XX века (в частности, И. Ильина), считавших Мережковского исключительно «европейским» писателем, а его первую трилогию — схоластическим, тенденциозным исследованием, посвящённым развитию заранее намеченной идейной канвы, исследователи более позднего времени отмечали, что вся трилогия «Христос и Антихрист», особенно её третий роман, была обращена в первую очередь к русскому читателю, хоть и была с восторгом принята на Западе и очень сдержанно — в России.
«Мучительное переживание разрыва со старым, вхождение в мир новых принципов и представлений и, наконец, поиски надёжной духовной опоры в период непрерывно совершающихся катастрофических перемен — всё это в значительной степени было частью наличного внутреннего опыта русского человека. Но масштабов, в которых этой ситуации суждено было вновь повториться в русском историческом бытии, очевидно, не мог предчувствовать в то время ни автор трилогии „Христос и Антихрист“, ни её читатель»[2], — отмечала Д. Магомедова.
Драматургия
Дмитрий Мережковский адаптировал роман для театра, переработав его в драму «Царевич Алексей» (1920).
Дмитрий Мережковский «Антихрист. Петр и Алексей»
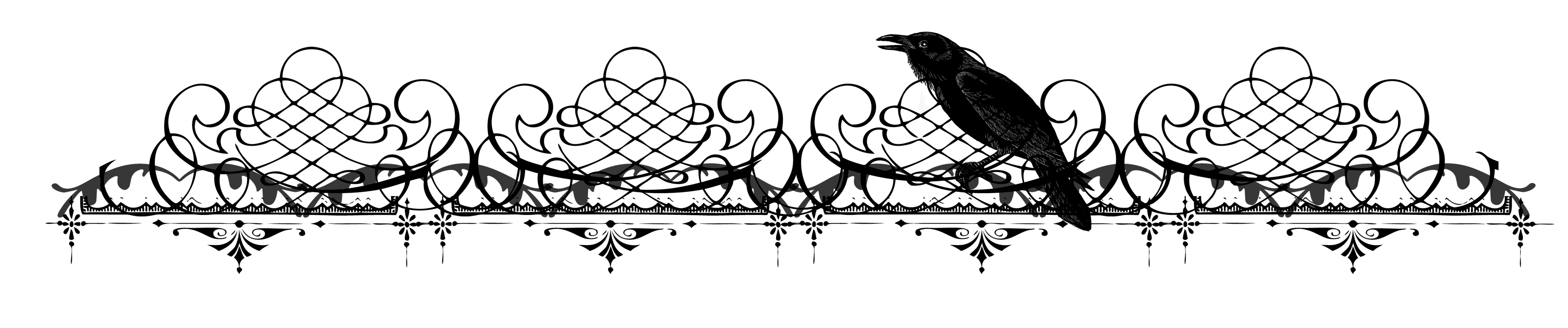
Творчество Дмитрия Мережковского на Lib.Ru/Классика: Мережковский Дмитрий Сергеевич: Собрание сочинений
Империя. Начало 1. Царевич Алексей (1997)
Вебинар проводят 27 сентября 2025 г. в 20:00 (время московское) Наталья Иванова и Ирина Дедюхова.
Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре, заполнив следующую форму и оплатив участие. Обязательны для заполнения только поля Имя и E-mail.
Оплатить программу вебинаров Яндекс.Деньгами или банковской картой можно в форме ниже:



